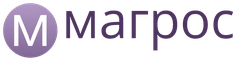(Отрывок)
Песнь первая
Есть сочинители - их много среди нас, -
Что тешатся мечтой взобраться на Парнас;
Но, знайте, лишь тому, кто призван быть поэтом,
Чей гений озарен незримым горним светом,
Покорствует Пегас и внемлет Аполлон:
Ему дано взойти на неприступный склон.
О вы, кого манит успеха путь кремнистый,
В ком честолюбие зажгло огонь нечистый,
Вы не достигнете поэзии высот:
Не станет никогда поэтом стихоплет.
Проверьте ваш талант и трезво и сурово.
Природа щедрая, заботливая мать,
Умеет каждому талант особый дать:
Тот может всех затмить в колючей эпиграмме,
А этот - описать любви взаимной пламя;
Ракан своих Филид и пастушков поет,
Малерб - высоких дел и подвигов полет.
Но иногда поэт, к себе не слишком строгий,
Предел свой перейдя, сбивается с дороги:
Так, у Фаре есть друг, писавший до сих пор
На стенах кабачка в стихи одетый вздор;
Некстати осмелев, он петь желает ныне
Исход израильтян, их странствия в пустыне.
Ретиво гонится за Моисеем он, -
Чтоб кануть в бездну вод, как древний фараон.
Будь то в трагедии, в эклоге иль в балладе,
Но рифма не должна со смыслом жить в разладе;
Меж ними ссоры нет и не идет борьба:
Он - властелин ее. она - его раба.
Коль вы научитесь искать ее упорно,
Охотно подчинись привычному ярму,
Неся богатство в дар владыке своему.
Но чуть ей волю дать - восстанет против долга,
И разуму ловить ее придется долго.
Так пусть же будет смысл всего дороже вам.
Пусть блеск и красоту лишь он дает стихам!
Иной строчит стихи как бы охвачен бредом:
Ему порядок чужд и здравый смысл неведом.
Чудовищной строкой он доказать спешит,
Что думать так, как все, его душе претит.
Не следуйте ему. Оставим итальянцам
Пустую мишуру с ее фальшивым глянцем.
Всего важнее смысл; но, чтоб к нему прийти,
Придется одолеть преграды на пути,
Намеченной тропы придерживаться строго:
Порой у разума всего одна дорога.
Нередко пишущий так в свой предмет влюблен,
Что хочет показать его со всех сторон:
Похвалит красоту дворцового фасада;
Начнет меня водить по всем аллеям сада;
Вот башенка стоит, пленяет арка взгляд;
Сверкая золотом, балкончики висят;
На потолке лепном сочтет круги, овалы:
«Как много здесь гирлянд, какие астрагалы!»
Десятка два страниц перелистав подряд,
Я жажду одного - покинуть этот сад.
Остерегайтесь же пустых перечислений
Ненужных мелочей и длинных отступлений!
Излишество в стихах и плоско и смешно:
Мы им пресыщены, нас тяготит оно.
Не обуздав себя, поэт писать не может.
Спасаясь от грехов, он их порою множит.
У вас был вялый стих, теперь он режет слух;
Нет у меня прикрас, но я безмерно сух;
Один избег длиннот и ясности лишился;
Другой, чтоб не ползти, в туманных высях скрылся.
Однообразия бегите как чумы!
Тягуче гладкие, размеренные строки
На всех читателей наводят сон глубокий.
Поэт, что без конца бубнит унылый стих,
Себе поклонников не обретет меж них.
Как счастлив тот поэт, чей стих, живой и гибкий,
Умеет воплотить и слезы и улыбки.
Любовью окружен такой поэт у нас:
Барбен его стихи распродает тотчас.
Бегите подлых слов и грубого уродства.
Пусть низкий слог хранит и строй и благородство
Вначале всех привлек разнузданный бурлеск:
У нас в новинку был его несносный треск.
Поэтом звался тот, кто был в остротах ловок.
Заговорил Парнас на языке торговок.
Всяк рифмовал как мог, не ведая препон,
И Табарену стал подобен Аполлон.
Всех заразил недуг, опасный и тлетворный,-
Болел им буржуа, болел им и придворный,
За гения сходил ничтожнейший остряк,
И даже Ассуси хвалил иной чудак.
Потом, пресыщенный сим вздором сумасбродным,
Его отринул двор с презрением холодным;
Он шутку отличил от шутовских гримас,
И лишь в провинции «Тифон» в ходу сейчас.
Возьмите образцом стихи Маро с их блеском
И бойтесь запятнать поэзию бурлеском;
Пускай им тешится толпа зевак с Пон-Неф.
Но пусть не служит вам примером и Бребеф.
Поверьте, незачем в сраженье при Фарсале
Чтоб «горы мертвых тел и раненых стенали».
С изящной простотой ведите свой рассказ
И научитесь быть приятным без прикрас.
Своим читателям понравиться старайтесь.
О ритме помните, с размера не сбивайтесь;
На полустишия делите так ваш стих
Чтоб смысл цезурою подчеркивался в них.
Вы приложить должны особое старанье,
Чтоб между гласными не допустить зиянья.
Созвучные слова сливайте в стройный хор:
Нам отвратителен согласных, грубый спор.
Стихи, где мысли есть. но звуки ухо ранят,
Когда во Франции из тьмы Парнас возник,
Царил там произвол, неудержим и дик.
Цезуру обойдя, стремились слов потоки…
Поэзией звались рифмованные строки!
Неловкий, грубый стих тех варварских времен
Впервые выровнял и прояснил Вильон.
Из-под пера Маро, изяществом одеты,
Слетали весело баллады, триолеты;
Рефреном правильным он мог в рондо блеснуть
И в рифмах показал поэтам новый путь.
Добиться захотел Ронсар совсем иного,
Придумал правила, но все запутал снова.
Латынью, греческим он засорил язык
И все-таки похвал и почестей достиг.
Однако час настал - и поняли французы
Смешные стороны его ученой музы.
Свалившись с высоты, он превращен в ничто,
Примером послужив Депортам и Берто.
Но вот пришел Малерб и показал французам
Простой и стройный стих, во всеми угодный музам,
Велел гармонии к ногам рассудка пасть
И, разместив слова, удвоил тем их власть.
Очистив наш язык от грубости и скверны,
Он вкус образовал взыскательный и верный,
За легкостью стиха внимательно следил
И перенос строки сурово запретил.
Его признали все; он до сих пор вожатый;
Любите стих его, отточенный и сжатый,
И ясность чистую всегда изящных строк,
И точные слова, и образцовый слог!
Неудивительно, что нас дремота клонит,
Когда невнятен смысл, когда во тьме он тонет;
От пустословия мы быстро устаем
Иной в своих стихах так затемнит идею,
Что тусклой пеленой туман лежит над нею
И разума лучам его не разорвать, -
Обдумать надо мысль и лишь потом писать!
Пока неясно вам, что вы сказать хотите,
Простых и точных слов напрасно не ищите
Но если замысел у вас в уме готов
Всё нужные слова придут на первый зов.
Законам языка покорствуйте, смиренны,
И твердо помните: для вас они священны.
Гармония стиха меня не привлечет,
Когда для уха чужд и странен оборот.
Иноязычных слов бегите, как заразы,
И стройте ясные и правильные фразы
Язык должны вы знать: смешон тот рифмоплет,
Что по наитию строчить стихи начнет.
Пишите не спеша, наперекор приказам:
Чрезмерной быстроты не одобряет разум,
И торопливый слог нам говорит о том.
Что стихотворец наш не наделен умом.
Милее мне ручей, прозрачный и свободный,
Текущий медленно вдоль нивы плодородной,
Чем необузданный, разлившийся поток,
Чьи волны мутные с собою мчат песок.
Спешите медленно и, мужество утроя,
Отделывайте стих, не ведая покоя,
Шлифуйте, чистите, пока терпенье есть:
Добавьте две строки и вычеркните шесть.
Когда стихи кишат ошибками без счета,
В них блеск ума искать кому придет охота?
Поэт обдуманно все должен разместить,
Начало и конец, в поток единый слить
И, подчинив слова своей бесспорной власти,
Искусно сочетать разрозненные части.
Не нужно обрывать событий плавный ход,
Пленяя нас на миг сверканием острот.
Вам страшен приговор общественного мненья?
Пристало лишь глупцу себя хвалить всегда.
Просите у друзей сурового суда.
Прямая критика, придирки и нападки
Откроют вам глаза на ваши недостатки.
Заносчивая спесь поэту не к лицу,
И, друга слушая, не внемлите льстецу:
Он льстит, а за глаза чернит во мненье света.
Спешит вам угодить не в меру добрый друг:
Он славит каждый стих, возносит каждый звук;
Все дивно удалось и все слова на месте;
Он плачет, он дрожит, он льет потоки лести,
И с ног сбивает вас похвал пустых волна, -
А истина всегда спокойна и скромна.
Тот настоящий друг среди толпы знакомых,
Кто, правды не боясь, укажет вам на промах,
Вниманье обратит на слабые стихи, -
Короче говоря, заметит все грехи.
Он строго побранит за пышную эмфазу,
Тут слово подчеркнет, там вычурную фразу;
Вот эта мысль темна, а этот оборот
В недоумение читателя введет…
Так будет говорить поэзии ревнитель.
Но несговорчивый, упрямый сочинитель
Свое творение оберегает так,
Как будто перед ним стоит не друг, а враг.
«Мне грубым кажется вот это выраженье».
Он тотчас же в ответ: «Молю о снисхожденье,
Не трогайте его». - «Растянут этот стих,
К тому же холоден». - «Он лучше всех других!» -
«Здесь фраза неясна и уточненья просит». -
«Но именно ее до неба превозносят!»
Что вы ни скажете, он сразу вступит в спор,
И остается все, как было до сих пор.
При этом он кричит, что вам внимает жадно,
И просит, чтоб его судили беспощадно…
Но это все слова, заученная лесть,
Уловка, чтобы вам свои стихи прочесть!
Довольный сам собой, идет он прочь в надежде,
Что пустит пыль в глаза наивному невежде, -
И вот в его сетях уже какой-то фат…
Невеждами наш век воистину богат!
У нас они кишат везде толпой нескромной -
У князя за столом, у герцога в приемной.
Ничтожнейший рифмач, придворный стихоплет,
Конечно, среди них поклонников найдет.
Чтоб кончить эту песнь, мы скажем в заключенье:
Глупец глупцу всегда внушает восхищенье.
Песнь вторая
Во всем подобная пленительной пастушке,
Резвящейся в полях и на лесной опушке
И украшающей волну своих кудрей
Убором из цветов, а не из янтарей, чужда
Идиллия кичливости надменной.
Блистая прелестью изящной и смиренной,
Приятной простоты и скромности полна,
Напыщенных стихов не признает она,
Нам сердце веселит, ласкает наше ухо,
Высокопарностью не оскорбляя слуха.
Но видим часто мы, что рифмоплет иной
Бросает, осердясь, и флейту и гобой;
Среди Эклоги он трубу хватает в руки,
И оглашают луг воинственные звуки.
Спасаясь, Пан бежит укрыться в тростники
И нимфы прячутся, скользнув на дно реки.
Другой пятнает честь Эклоги благородной,
Вводя в свои стихи язык простонародный:
Лишенный прелести, крикливо-грубый слог
Не к небесам летит, а ползает у ног.
Порою чудится, что это тень Ронсара
На сельской дудочке наигрывает яро;
Не зная жалости, наш слух терзает он,
Стараясь превратить Филиду в Туанон.
Избегнуть крайностей умели без усилий
И эллин Феокрит и римлянин Вергилий,
Вы изучать должны и днем и ночью их:
Ведь сами музы им подсказывали стих.
Они научат вас, как, легкость соблюдая,
И чистоту храня, и в грубость не впадая,
Петь Флору и поля, Помону и сады,
Свирели, что в лугах звенят на все лады,
Любовь, ее восторг и сладкое мученье,
Нарцисса томного и Дафны превращенье, -
И вы докажете, что «консула порой
Достойны и поля, и луг, и лес густой»,
Затем, что велика Эклоги скромной сила.
В одеждах траурных, потупя взор уныло,
Элегия скорбя, над гробом слезы льет
Не дерзок, но высок ее стиха полет.
Она рисует нам влюбленных смех, и слезы,
И радость, и печаль, и ревности угрозы;
Но лишь поэт, что сам любви изведал власть.
Сумеет описать правдиво эту страсть..
Признаться, мне претят холодные поэты,
Что пишут о любви, любовью не согреты,
Притворно слезы льют, изображают страх
И, равнодушные, безумствуют в стихах.
Невыносимые ханжи и пустословы,
Они умеют петь лишь цепи да оковы,
Боготворить свой плен, страданья восхвалять
И деланностью чувств рассудок оскорблять.
Нет, были не смешны любви слова живые,
Что диктовал Амур Тибуллу в дни былые,
И безыскусственно его напев звучал,
Когда Овидия он песням обучал.
Элегия сильна лишь чувством непритворным
Стремится Ода ввысь, к далеким кручам горным,
И там, дерзания и мужества полна,
С богами говорит как равная она;
Прокладывает путь в Олимпии атлетам
И победителя дарит своим приветом;
Ахилла в Илион бестрепетно ведет
Иль город на Эско с Людовиком берет;
Порой на берегу у речки говорливой
Кружится меж цветов пчелой трудолюбивой;
Рисует празднества, веселье и пиры,
Ириду милую и прелесть той игры,
Когда проказница бежит от поцелуя,
Чтоб сдаться под конец, притворно негодуя.
Пусть в Оде пламенной причудлив мысли ход,
Но этот хаос в ней - искусства зрелый плод.
Бегите рифмача, чей разум флегматичный
Готов и в страсть внести порядок педантичный:
Он битвы славные и подвиги поет,
Неделям и годам ведя уныло счет;
Попав к истории в печальную неволю,
Войска в своих стихах он не направит к Долю,
Пока не сломит Лилль и не возьмет Куртре.
Короче говоря, он сух, как Мезере.
Феб не вдохнул в него свой пламень лучезарный,
Вот, кстати, говорят, что этот бог коварный
В тот день, когда он был на стихоплетов зол,
Законы строгие Сонета изобрел.
Вначале, молвил он, должно быть два катрена;
Соединяют их две рифмы неизменно;
Двумя терцетами кончается Сонет:
Мысль завершенную хранит любой терцет.
В Сонете Аполлон завел порядок строгий:
Он указал размер и сосчитал все слоги,
В нем повторять слова поэтам запретил
И бледный, вялый стих сурово осудил.
Теперь гордится он работой не напрасной:
Поэму в сотни строк затмит Сонет прекрасный.
Но тщетно трудятся поэты много лет:
Сонетов множество, а феникса все нет.
Их груды у Гомбо, Менара и Мальвиля,
Но лишь немногие читателя пленили;
Мы знаем, что Серей колбасникам весь год
Сонеты Пеллетье на вес распродает.
Блистательный Сонет поэтам непокорен:
То тесен чересчур, то чересчур просторен.
Стих Эпиграммы сжат, но правила легки:
В ней иногда всего острота в две строки.
Словесная игра - плод итальянской музы.
Проведали о ней не так давно французы.
Приманка новая, нарядна, весела,
Скучающих повес совсем с ума свела.
Повсюду встреченный приветствием и лаской,
Уселся каламбур на высоте парнасской.
Сперва он покорил без боя Мадригал;
Потом к нему в силки гордец Сонет попал;
Ему открыла дверь Трагедия радушно,
И приняла его Элегия послушно;
Расцвечивал герой остротой монолог;
Любовник без нее пролить слезу не мог;
Печальный пастушок, гуляющий по лугу,
Не забывал острить, пеняя на подругу.
У слова был всегда двойной коварный лик.
Двусмысленности яд и в прозу к нам проник:
Оружьем грозным став судьи и богослова,
Разило вкривь и вкось двусмысленное слово.
Но разум, наконец, очнулся и прозрел:
Он из серьезных тем прогнать его велел,
Безвкусной пошлостью признав игру словами,
Ей место отведя в одной лишь Эпиграмме,
Однако, приказав, чтоб мысли глубина
Сквозь острословие и здесь была видна.
Всем по сердцу пришлись такие перемены,
Но при дворе еще остались тюрлюпены,
Несносные шуты, смешной и глупый сброд,
Защитники плохих, бессмысленных острот.
Пусть муза резвая пленяет нас порою
Веселой болтовней, словесною игрою,
Нежданной шуткою и бойкостью своей,
Но пусть хороший вкус не изменяет ей:
Зачем стремиться вам, чтоб Эпиграммы жало
Таило каламбур во что бы то ни стало?
В любой поэме есть особые черты,
Печать лишь ей одной присущей красоты:
Затейливостью рифм нам нравится Баллада
Рондо наивностью и простотою лада,
Изящный, искренний любовный Мадригал
Возвышенностью чувств сердца очаровал.
Не злобу, а добро стремясь посеять в мире,
Являет истина свой чистый лик в Сатире.
Луцилий первый ввел Сатиру в гордый Рим.
Он правду говорил согражданам своим
И отомстить сумел, пред сильным не робея,
Спесивцу богачу за честного плебея.
Гораций умерял веселым смехом гнев.
Пред ним глупец и фат дрожали, онемев:
Назвав по именам, он их навек ославил,
Стихосложения не нарушая правил.
Неясен, но глубок сатирик Персии Флакк:
Он мыслями богат и многословью враг.
В разящих, словно меч, сатирах Ювенала
Гипербола, ярясь, узды не признавала.
Стихами Ювенал язвит, бичует, жжет,
Но сколько блеска в них и подлинных красот!
Приказом возмущен Тиберия-тирана,
Он статую крушит жестокого Сеяна;
Рассказывает нам, как на владыки зов
Бежит в сенат толпа трепещущих льстецов;
Распутства гнусного нарисовав картину,
В объятья крючников бросает Мессалину…
И пламенен и жгуч его суровый стих.
Прилежный ученик наставников таких,
Сатиры острые писал Ренье отменно.
Звучал бы звонкий стих легко и современно,
Когда бы он - увы! - подчас не отдавал
Душком тех злачных мест, где наш поэт бывал,
Когда б созвучья слов, бесстыдных, непристойных,
Не оскорбляли слух читателей достойных.
К скабрезным вольностям латинский стих привык,
Но их с презрением отринул наш язык.
Коль мысль у вас вольна и образы игривы,
В стыдливые слова закутать их должны вы.
Тот, у кого в стихах циничный, пошлый слог,
Не может обличать распутство и порок.
Словами острыми всегда полна Сатира;
Их подхватил француз - насмешник и задира -
И создал Водевиль- куплетов бойкий рой.
Свободного ума рожденные игрой,
Они из уст в уста легко передаются,
Беззлобно дразнят нас и весело смеются.
Но пусть не вздумает бесстыдный рифмоплет
Избрать всевышнего мишенью для острот:
Шутник, которого безбожье подстрекает,
На Гревской площади печально путь кончает.
Для песен надобен изящный вкус и ум,
Но муза пьяная, подняв несносный шум,
Безжалостно поправ и здравый смысл и меру,
Готова диктовать куплеты и Линьеру.
Когда запишете стишок удачный вы,
Старайтесь не терять от счастья головы.
Иной бездарный шут, нас одарив куплетом,
Надменно мнит себя невесть каким поэтом;
Лишь сочинив сонет, он может опочить,
Проснувшись, он спешит экспромты настрочить.
Спасибо, если он, в неистовстве волненья,
Стремясь издать скорей свои произведенья,
Не просит, чтоб Нантейль украсил этот том
Песнь третья
Порою на холсте дракон иль мерзкий гад
Живыми красками приковывает взгляд,
И то. что в жизни нам казалось бы ужасным,
Под кистью мастера становится прекрасным.
Так, чтобы нас пленить, трагедия в слезах
Ореста мрачного рисует скорбь и страх,
В пучину горестей Эдипа повергает
И, развлекая нас, рыданья исторгает.
Поэты, в чьей груди горит к театру страсть,
Хотите ль испытать над зрителями власть,
Хотите ли снискать Парижа одобренье
И сцене подарить высокое творенье,
Которое потом с подмостков не сойдет
И будет привлекать толпу из года в год?
Пускай огнем страстей исполненные строки
Тревожат, радуют, рождают слез потоки!
Но если доблестный и благородный пыл
Приятным ужасом сердца не захватил
И не посеял в них живого состраданья
Напрасен был ваш труд и тщетны все старанья
Не прозвучит хвала рассудочным стихам,
И аплодировать никто не станет вам;
Пустой риторики наш зритель не приемлет:
Он критикует вас иль равнодушно дремлет.
Найдите путь к сердцам: секрет успеха в том,
Чтоб зрителя увлечь взволнованным стихом.
Пусть вводит в действие легко, без напряженья
Завязки плавное, искусное движенье.
Как скучен тот актер, что тянет свой рассказ
И только путает и отвлекает нас!
Он словно ощупью вкруг темы главной бродит
И непробудный сон на зрителя наводит!
Уж лучше бы сказал он сразу, без затей:
Меня зовут Орест иль, например, Атрей, -
Чем нескончаемым бессмысленным рассказом
Нам уши утомлять и возмущать наш разум.
Вы нас, не мешкая, должны в сюжет ввести.
Единство места в нем вам следует блюсти,
За Пиренеями рифмач, не зная лени,
Вгоняет тридцать лет в короткий день на сцене.
В начале юношей выходит к нам герой,
А под конец, глядишь, - он старец с бородой.
Но забывать нельзя, поэты, о рассудке:
Одно событие, вместившееся в сутки
В едином месте пусть на сцене протечет:
Лишь в этом случае оно нас увлечет.
Невероятное растрогать неспособно.
Пусть правда выглядит всегда правдоподобно:
Мы холодны душой к нелепым чудесам,
И лишь возможное всегда по вкусу нам.
Не все события, да будет вам известно,
С подмостков зрителям показывать уместно:
Волнует зримое сильнее чем рассказ
Но то, что стерпит слух, порой не стерпит глаз.
Пусть напряжение доходит до предела
И разрешается потом легко и смело.
Довольны зрители, когда нежданный свет
Развязка быстрая бросает на сюжет,
Ошибки странные и тайны разъясняя
И непредвиденно события меняя.
В далекой древности, груба и весела,
Народным празднеством Трагедия была:
В честь Вакха пели там, кружились и плясали,
Чтоб гроздья алые на лозах созревали,
И вместо пышного лаврового венца
Козел наградой был искусного певца.
Впервые Феспид стал такие представленья
Возить и в города и в тихие селенья,
В телегу тряскую актеров посадил
И новым зрелищем народу угодил.
Пристойной маскою прикрыл лицо актеру,
И на котурнах он велел ему ходить,
Чтобы за действием мог зритель уследить.
Был жив еще Эсхил, когда Софокла гений
Еще усилил блеск и пышность представлений
И властно в действие старинный хор вовлек.
Софокл отшлифовал неровный, грубый слог
И так вознес театр, что для дерзаний Рима
Такая высота была недостижима.
Театр французами был прежде осужден:
Казался в старину мирским соблазном он.
В Париже будто бы устроили впервые
Такое зрелище паломники простые,
Изображавшие, в наивности своей,
И бога, и святых, и скопище чертей.
Но разум, разорвав невежества покровы,
Сих проповедников изгнать велел сурово,
Кощунством объявив их богомольный бред.
На сцене ожили герои древних лет,
Но масок нет на них, и скрипкой мелодичной
Сменился мощный хор трагедии античной.
Источник счастья, мук, сердечных жгучих ран,
Любовь забрала в плен и сцену и роман.
Изобразив ее продуманно и здраво,
Пути ко всем сердцам найдете без труда вы.
Итак, пусть ваш герой горит любви огнем,
Но пусть не будет он жеманным пастушком!
Ахилл не мог любить как Тирсис и Филена,
И вовсе не был Кир похож на Артамена!
Любовь, томимую сознанием вины,
Представить слабостью вы зрителям должны.
Герой, в ком мелко все, лишь для романа годен.
Пусть будет он у вас отважен, благороден
Но все ж без слабостей он никому не мил
Нам дорог вспыльчивый, стремительный Ахилл;
Он плачет от обид - нелишняя подробность,
Чтоб мы поверили в его правдоподобность;
Нрав Агамемнона высокомерен, горд;
Эней благочестив и в вере предков тверд.
Герою своему искусно сохраните
Черты характера среди любых событий.
Его страну и век должны вы изучать:
Они на каждого кладут свою печать.
Никола́ Буало́-Депрео́ (фр. Nicolas Boileau-Despréaux ; 1 ноября 1636 , Париж - 13 марта 1711 , там же ) - французский поэт, критик, теоретик классицизма
Получил основательное научное образование, изучал сначала правоведение и богословие, но потом исключительно предался изящной словесности. На этом поприще он уже рано приобрел известность своими «Сатирами» (1660 ). В 1677 году Людовик XIV назначил его своим придворным историографом, вместе с Расином , сохранив своё расположение к Буало, несмотря на смелость его сатир .
Лучшими сатирами Буало считаются восьмая («Sur l’homme») и девятая («A son esprit»). Кроме того, он написал множество посланий, од, эпиграмм и т. д.
«Поэтическое искусство»
Самое знаменитое сочинение Буало - поэма -трактат в четырех песнях «Поэтическое искусство» («L’art poétique») - представляет собой подведение итогов эстетики классицизма . Буало исходит из убеждения, что в поэзии, как и в других сферах жизни, выше всего должен быть поставлен bon sens, разум, которому должны подчиниться фантазия и чувство. Как по форме, так и по содержанию поэзия должна быть общепонятна, но легкость и доступность не должны переходить в пошлость и вульгарность, стиль должен быть изящен, высок, но, в то же время, прост и свободен от вычурности и трескучих выражений.
Влияние Буало
Как критик, Буало пользовался недосягаемым авторитетом и оказал огромное влияние на свой век и на всю поэзию XVIII века , пока на смену ей не явился романтизм . Он с успехом низвергал раздутые знаменитости того времени, осмеивал их жеманство, сентиментальность и вычурность, проповедовал подражание древним, указывая на лучшие образцы тогдашней французской поэзии (на Расина и Мольера ), и в своем «Art poétique» создал кодекс изящного вкуса, который долгое время считался обязательным в французской литературе («Законодатель Парнаса»). Таким же бесспорным авторитетом Буало являлся и в русской литературе конца XVIII века. Наши представители псевдокласизма не только слепо следовали правилам литературного кодекса Буало, но и подражали его произведениям (так, сатира Кантемира «К уму моему» есть сколок «A son esprit» Буало).
«Налой»
Своей комической поэмой «Налой » («Le Lutrin») Буало хотел показать, в чём должен заключаться истинный комизм и выразить протест против полной грубых фарсов комической литературы того времени, угождавшей невежественному вкусу значительной части читателей; но заключая в себе некоторые забавные эпизоды, поэма лишена живой струи истинного юмора и отличается скучными длиннотами.
Буало и «спор о древних и новых»
В старости Буало вмешался в очень важный для того времени спор о сравнительном достоинстве древних и новых авторов. Сущность спора заключалась в том, что одни доказывали превосходство новых французских поэтов над древними греческими и римскими, так как они сумели соединить красоту античной формы с разнообразием и высокой нравственностью содержания. Другие же были убеждены, что никогда франц. писатели не превзойдут своих великих учителей. Буало вначале долго воздерживался сказать своё веское слово, но наконец выпустил в свет комментарии к сочинениям Лонгина , в котором является горячим поклонником древних классиков. Однако, защита его не имела ожидаемого результата и франц. общество продолжало предпочитать самого Буало Горацию .
Наибольшую известность как теоретик классицизма получил Никола Буало (1636-1711). Свою теорию он изложил в стихотворном трактате «Поэтическое искусство» (1674). Правда, основные принципы классицизма были высказаны ранее Декартом в его трех письмах к Гез де Бальзаку, а также в других сочинениях. Искусство, по мнению Декарта, должно быть подчинено строгой регламентации со стороны разума. Требования ясности, четкости анализа распространяются философом и на эстетику. Язык произведения должен отличаться рационалистичностью, а композиция может строиться только на строго установленных правилах. Главная задача художника - убеждать силой и логикой мыслей. Однако Декарт занимался больше вопросами математики и естествознания, поэтому систематизированного изложения эстетических идей не дал. Это осуществил Буало в названном выше трактате, состоящем из четырех частей. В первой части говорится о предназначении поэта, его моральной ответственности, о необходимости овладения поэтическим искусством; во второй - анализируются лирические жанры: ода, элегия, баллада, эпиграмма, идиллия; в третьей, явлющеися средоточием общеэстетической проблематики, дается изложение теории трагедии и комедии; в заключительной части Буало возвращается опять к личности поэта, рассматривая этические проблемы творчества. В своем трактате Буало выступает и как эстетик, и как литературный критик; с одной стороны, он опирается на метафизику, т. е. на рационализм Декарта, с другой на художественное творчество Корнеля, Расина, Мольера - выдающихся писателей французского классицизма. Одним из основных положений эстетики Буало является требование во всем следовать античности. Он даже выступает за сохранение античной мифологии как источника нового искусства. Корнель и Расин очень часто обращаются к античным сюжетам, но трактовку им дают современную. В чем специфика истолкования античности французскими классицистами? Прежде всего в том, что они в основном ориентируются на суровое римское искусство, а не на древне греческое. Так, положительными героями Корнеля являются Август, Гораций. В них он видит олицетворение долга, патриотизма. Это суровые, неподкупные люди, ставящие интересы государства выше личных интересов и страстей. Образцами подражания для классицистов являются «Энеида» Вергилия, комедия Теренция, сатиры Горация, трагедии Сенеки. Из римской истории берет материал для трагедий и Расин («Британию», «Береник», «Митридат»), хотя он проявляет симпатию и к греческой истории («Федра», «Андромаха», «Ифигения»), а также к греческой литературе (его любимым писателем был Еврипид). В трактовке категории прекрасного классицисты исходят из идеалистических положений. Так, художник-классицист Н. Пуссен пишет: «Прекрасное не имеет ничего общего с материей, которая никогда к прекрасному не приблизится, если не будет одухотворена соответствующей подготовкой». На идеалистической точке зрения в понимании прекрасного стоит и Буало. Красота в его понимании - это гармония и закономерность Вселенной, но источником ее является не сама природа, а некое духовное начало, упорядочивающее материю и противостоящее ей. Духовная красота ставится выше физической, а произведения искусства выше творений природы, которая уже не представляется в виде нормы, образца для художника, как полагали гуманисты. В понимании сущности искусства Буало также исходит из идеалистических установок. Правда, он говорит о подражании природе, но природа при этом должна быть очищена, освобождена от первоначальной грубости, оформлена упорядочивающей деятельностью разума. В этом смысле Буало говорит «об изящной природе»: «изящная природа» -- это, скорее, отвлеченное понятие о природе, чем сама природа, как таковая. Природа для Буало - нечто противостоящее духовному началу. Последнее упорядочивает материальный мир, и художник, равно как и писатель, воплощает как раз духовные сущности, лежащие в основе природы. Разум и есть это духовное начало. Не случайно Буало превыше всего ценит «смысл» разума. Это, собственно, исходная точка зрения всякого рационализма. Свой блеск и достоинство произведение должно черпать в разуме. Буало требует от поэта точности, ясности, простоты, обдуманности. Он решительно заявляет, что нет красоты вне истины. Критерием красоты, как истины, являются ясность и очевидность, все непонятное некрасиво. Ясность содержания и, как его следствие, ясность воплощения - это основные признаки красоты художественного произведения. Ясность должна касаться не только частей, но и целого. Отсюда гармония частей и целого провозглашается как непременная основа прекрасного в искусстве. Все, что туманно, нечетко, непонятно, объявляется уродливым. Красота связана с разумом, с ясностью, отчетливостью. Поскольку разум абстрагирует, обобщает, т. е. имеет дело главным образом с общими понятиями, ясно, почему рационалистическая эстетика ориентируется на общее, родовое, общетипическое. Характер, согласно Буало, должен изображаться неподвижным, лишенным развития и противоречий. Этим самым Буало увековечивает художественную практику своего времени. Действительно, большинство характеров Мольера отличается статичностью. Такое же положение мы встречаем и у Расина. Теоретик классицизма выступает против того, чтобы показывать характер в развитии, в становлении; он игнорирует изображение тех условий, в которых формируется характер. В этом Буало исходит из художественной практики своего времени. Так, Мольеру нет дела до того, почему и при каких обстоятельствах Гарпагон («Скупой») стал олицетворением скупости, а Тартюф («Тартюф») - лицемерия. Ему важно показать Скупость и Лицемерие. Типический образ превращается в сухую геометрическую абстракцию. Это обстоятельство очень точно подмечено Пушкиным: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков... У Мольера скупой скуп - и только; у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера Лицемер волочится за женою своего благодетеля - лицемеря; принимает имение под сохранение - лицемеря; спрашивает стакан воды - лицемеря». Способ типизации в теории и практике классицизма находится в полном соответствии с характером философии и естествознания XVII в., т. е. метафизичен. Он непосредственно вытекает из особенностей мировоззрения классицистов, требовавших подчинения личного общему в интересах торжества абстрактного долга, олицетворяемого монархом. События, изображаемые в трагедии, касаются важных государственных вопросов: зачастую борьба развивается вокруг трона, престолонаследия. Поскольку все решается великими людьми, то действие концентрируется вокруг царственных особ. Причем само действие, как правило, сводится к душевной борьбе, которая происходит в герое. Внешнее развитие драматических действий заменяется в трагедии изображением психологических состояний героев-одиночек. Весь объем трагического конфликта сосредоточивается в душевной сфере. Внешние события чаще всего выносятся за сцену, о которых рассказывают вестники и наперсники. Вследствие этого трагедия становится несценичной, статичной: произносятся эффектные монологи; ведутся словесные диспуты по всем правилам ораторского искусства; герои постоянно занимаются самоанализом, рефлексируют и рассудочно повествуют о своих переживаниях, непосредственность чувств им недоступна. Комедия резко противопоставляется трагедии. В ней всегда должно выступать низкое и порочное. Такого рода отрицательные качества, по глубокому убеждению Буало, встречаются в основном в простонародье. В таком толковании комические персонажи не отражают социальных противоречий. У Буало метафизично не только абсолютное противопоставление трагического и комического, высокого и низкого, но столь же метафизичен отрыв характера от ситуации. В этом отношении Буало непосредственно исходит из художественной практики своего времени, т. е. теоретически защищает лишь комедию характеров. Комедия характеров в значительной мере снижала разоблачительную силу комедийного жанра. Воплощенная абстракция порока направлялась против носителей порока всех времен и всех народов и по одному этому не была направлена против кого-либо. Следует отметить, что теория комедии Буало стояла даже ниже художественной практики своего времени. При всех недостатках и исторической ограниченности эстетика классицизма все же была шагом вперед в художественном развитии человечества. Руководствуясь ее принципами, Корнель и Расин, Мольер и Лафонтен и другие крупные писатели Франции XVII в. создали выдающиеся художественные произведения. Основной заслугой эстетики классицизма является культ разума. Возвышая разум, сторонники принципов классицизма устраняли авторитет церкви, священное писание, религиозные предания в практике художественного творчества. Несомненно, было прогрессивным требование Буало исключить из искусства христианскую мифологию с ее чудесами и мистикой
«Поэтическое искусство» делится на четыре песни. В первой перечисляются общие требования, предъявляемые к истинному поэту: талант, правильный выбор своего жанра, следование законам разума, содержательность поэтического произведения.
Так пусть же будет смысл всего дороже вам,
Пусть блеск и красоту лишь он дает стихам!
Отсюда Буало делает вывод: не увлекаться внешними эффектами («пустой мишурой»), чрезмерно растянутыми описаниями, отступлениями от основной линии повествования. Дисциплина мысли, самоограничение, разумная мера и лаконизм - эти принципы Буало отчасти почерпнул у Горация, отчасти в творчестве своих выдающихся современников и передал их следующим поколениям как непреложный закон. В качестве отрицательных примеров он приводит «разнузданный бурлеск» и преувеличенную, громоздкую образность барочных поэтов. Обращаясь к обзору истории французской поэзии, он иронизирует над поэтическими принципами Ронсара и противопоставляет ему Малерба:
Но вот пришел Малерб и показал французам
Простой и стройный стих, во всем угодный музам.
Велел гармонии к ногам рассудка пасть
И, разместив слова, удвоил тем их власть.
В этом предпочтении Малерба Ронсару сказалась избирательность и ограниченность классицистского вкуса Буало. Богатство и разнообразие языка Ронсара, его смелое поэтическое новаторство представлялись ему хаосом и ученым «педантизмом» (т. е. чрезмерным заимствованием «ученых» греческих слов). Приговор, вынесенный им великому поэту Ренессанса, оставался в силе до начала XIX в., пока французские романтики не «открыли» для себя вновь Ронсара и других поэтов Плеяды, и сделали их знаменем борьбы против окостеневших догм классицистской поэтики.
Вслед за Малербом Буало формулирует основные правила стихосложения, надолго закрепившиеся во французской поэзии: запрещение «переносов» (enjambements), т. е. несовпадения конца строки с концом фразы или ее синтаксически завершенной части, «зиянья», т. е. столкновения гласных в соседствующих словах, скопления согласных и т. п. Первая песнь завершается советом прислушиваться к критике и быть требовательным к себе.
Вторая песнь посвящена характеристике лирических жанров - идиллии, эклоги, элегии и др. Называя в качестве образцов древних авторов - Феокрита, Вергилия, Овидия, Тибулла, Буало высмеивает фальшивые чувства, надуманные выражения и банальные штампы современной пасторальной поэзии. Переходя к оде, он подчеркивает ее высокое общественно значимое содержание: воинские подвиги, события государственной важности. Вскользь коснувшись малых жанров светской поэзии - мадригалов и эпиграмм - Буало подробно останавливается на сонете, который привлекает его своей строгой, точно регламентированной формой. Подробнее всего он говорит о сатире, особенно близкой ему как поэту. Здесь Буало отступает от античной поэтики, относившей сатиру к «низким» жанрам. Он видит в ней наиболее действенный, общественно активный жанр, способствующий исправлению нравов:
Не злобу, а добро стремясь посеять в мире,
Являет истина свой чистый лик в сатире.
Напоминая о смелости римских сатириков, обличавших пороки сильных мира сего, Буало особо выделяет Ювенала, которого берет себе на образец. Признавая заслуги своего предшественника Матюрена Ренье, он, однако, ставит ему в вину «бесстыдные, непристойные слова» и «скабрезности».
В целом лирические жанры занимают в сознании критика явно подчиненное место по сравнению с крупными жанрами - трагедией, эпопеей, комедией, которым посвящена третья, наиболее важная песнь «Поэтического искусства». Здесь обсуждаются узловые, принципиальные проблемы поэтической и общеэстетической теории и прежде всего проблема «подражания природе». Если в других частях «Поэтического искусства» Буало следовал в основном Горацию, то здесь он опирается на Аристотеля.
Буало начинает эту песнь с тезиса об облагораживающей силе искусства:
Порою на холсте дракон иль мерзкий гад
Живыми красками приковывает взгляд,
И то, что в жизни нам казалось бы ужасным,
Под кистью мастера становится прекрасным.
Смысл этого эстетического преображения жизненного материала в том, чтобы вызвать у зрителя (или читателя) сочувствие к трагическому герою, даже виновному в тяжком преступлении:
Так, чтобы нас пленить, Трагедия в слезах
Ореста мрачного рисует скорбь и страх,
В пучину горестей Эдипа повергает
И, развлекая нас, рыданья исторгает.
Идея облагораживания природы у Буало совсем не означает ухода от темных и страшных сторон действительности в замкнутый мир красоты и гармонии. Но он решительно выступает против любования преступными страстями и злодействами, подчеркивания их «величия», как это нередко случалось в барочных трагедиях Корнеля и обосновывалось в его теоретических сочинениях. Трагизм реальных жизненных конфликтов, какова бы ни была его природа и источник, должен всегда нести в себе нравственную идею, способствующую «очищению страстей» («катарсису»), в котором Аристотель видел цель и назначение трагедии. А это может быть достигнуто лишь путем этического оправдания героя, «преступного поневоле», раскрытия его душевной борьбы с помощью тончайшего психологического анализа. Только таким образом можно воплотить в отдельном драматическом характере общечеловеческое начало, приблизить его «исключительную судьбу», его страдания к строю мыслей и чувств зрителя, потрясти и взволновать его. Несколькими годами позже Буало вернулся к этой мысли в VII послании, обращенном к Расину после провала «Федры». Тем самым эстетическое воздействие в поэтической теории Буало неразрывно слито с этическим.
Узнайте горожан, придворных изучите;
Меж них старательно характеры ищите.
При этом под «горожанами» Буало разумеет верхушку буржуазии.
Косвенно рекомендуя, таким образом, выводить комедиях дворян и буржуа (в отличие от трагедии, которая в соответствии с иерархией жанров имеет дело только с царями, полководцами, прославленными историческими героями), Буало совершенно недвусмысленно подчеркивает свое пренебрежение к простому народу. В знаменитых строках, посвященных Мольеру, он проводит резкую грань между его «высокими» комедиями, лучшей из которых он считал «Мизантропа», и «низкими» фарсами, написанными для простого народа.
Идеалом для Буало является древнеримская комедия характеров, ее он противопоставляет традиции средневекового народного фарса, которая воплощается для него в образе ярмарочного фарсового актера Табарена. Буало решительно отвергает комические приемы народного фарса - двусмысленные шутки, палочные удары, грубоватые остроты считая, их несовместимыми со здравым смыслом хорошим вкусом и с основной задачей комедии - поучать и воспитывать без желчи и без яда.
Игнорируя социальную конкретность и заостренность комедии, Буало, само собой разумеется, не мог оценить тех богатых сатирических возможностей, которые были заложены в традициях народного фарса и которые так широко использовал и развил Мольер.
Ориентация на образованного зрителя и читателя, принадлежащего высшим кругам общества или по крайней мере вхожего в эти круги, во многом определяет собою ограниченность эстетических принципов Буало. Когда он требует общепонятности и общедоступности мыслей, языка, композиции, то под словом «общий» он подразумевает не широкого демократического читателя, а «двор и город», причем «город» для него - это верхушечные слои буржуазии, буржуазная интеллигенция и дворянство.
Однако это не означает, что Буало безоговорочно и решительно признает безошибочность литературных вкусов и суждений высшего общества; говоря о «читателях-глупцах», он с горечью констатирует:
Невеждами наш век воистину богат!
У нас они кишат везде толпой нескромной, -
У князя за столом, у герцога в приемной.
Цель и задача литературной критики - воспитать и развить вкус читающей публики на лучших образцах античной и современной поэзии.
Ограниченность социальных симпатий Буало сказалась и в его языковых требованиях: он беспощадно изгоняет из поэзии низкие и вульгарные выражения, обрушивается на «площадной», «базарный», «кабацкий» язык. Но вместе с тем он высмеивает и сухой, мертвый, лишенный выразительности язык ученых педантов; преклоняясь перед античностью, он возражает против чрезмерного увлечения «учеными» греческими словами (о Ронсаре: «Его французский стих по-гречески звучал»).
Образцом языкового мастерства является для Буало Малерб, в стихах которого он ценит прежде всего ясность, простоту и точность выражения.
Этим принципам Буало стремится следовать и в собственном поэтическом творчестве; они-то и определяют основные стилистические особенности «Поэтического искусства» как стихотворного трактата: необыкновенную стройность композиции, чеканность стиха, и лаконичную четкость формулировок.
Одним из излюбленных приемов Буало является антитеза - противопоставление крайностей, которых должен избегать поэт; она помогает Буало яснее и нагляднее показать то, что он считает «золотой сере, диной».
Целый ряд общих положений (нередко заимствованных из Горация), которым Буало сумел придать афористически сжатую форму, стали в дальнейшем крылатыми изречениями, вошли в пословицу. Но, как правило, такие общие положения обязательно сопровождаются в «Поэтическом искусстве» конкретной характеристикой того или иного поэта; иногда же они развертываются в целую драматизованную сценку-диалог или басню (см., например, конец I песни и начало IV песни). В этих небольших бытовых и нравоописательных зарисовках чувствуется мастерство опытного сатирика.
Стихотворный трактат Буало, запечатлевший живую борьбу - литературных направлений и взглядов своего времени, в дальнейшем был канонизован как непререкаемый авторитет, как норма эстетических вкусов и требований, на эстетику Буало опираются не только классицисты во Франции, но и сторонники доктрины классицизма в других странах, пытающиеся ориентировать свою национальную литературу на французские образцы. Это необходимо должно было привести уже во второй половине XVIII века к резкой оппозиции со стороны поборников национального, самобытного развития родной литературы, и оппозиция эта со всей силой обрушилась на поэтическую теорию Буало.
В самой Франции традиция классицизма (в особенности в области драматургии и в теории стихосложения) была устойчивее, чем где бы то ни было, и решительный бой доктрине классицизма был дан лишь в первой четверти XIX века романтической школой, отвергнувшей все основные принципы поэтики Буало: рационализм, следование традиции, строгую пропорциональность и гармоничность композиции, симметрию в построении стиха.
В России поэтическая теория Буало встретила сочувствие и интерес у поэтов XVIII века - Кантемира, Сумарокова и в особенности Тредиаковского, которому принадлежит первый перевод «Поэтического искусства» на русский язык (1752). В дальнейшем трактат Буало не раз переводился на русский язык (назовем здесь старые переводы начала XIX века, принадлежавшие Д. И. Хвостову, А. П. Буниной, и относительно новый перевод Нестеровой, сделанный в 1914 году). В советское время появился перевод I песни Д. Усова и перевод всего трактата Г. С. Пиралова под редакцией Г. А. Шенгели (1937).
Пушкин, неоднократно цитировавший «Поэтическое искусство» в своих критических заметках о французской литературе, назвал Буало в числе «истинно великих писателей, покрывших таким блеском конец XVII века».
Борьба передовой реалистической литературы и критики, прежде всего Белинского, против балласта классических догм и консервативных традиций классической поэтики не могла не сказаться в том отрицательном отношении к поэтической системе Буало, которое надолго утвердилось в русской литературе и продолжало сохраняться и после того, как борьба между классиками и романтиками давно отошла в область истории.
Советское литературоведение подходит к творчеству Буало, имея в виду ту прогрессивную роль, которую великий французский критик сыграл в становлении своей. национальной литературы, в выражении тех передовых для его времени эстетических идей. без которых невозможно было бы в дальнейшем развитие эстетики просвещения.
Поэтика Буало, при всей своей неизбежной противоречивости и ограниченности, явилась выражением прогрессивных тенденций французской литературы и литературной теории. Сохранив целый ряд формальных моментов, выработанных до него теоретиками доктрины классицизма в Италии и Франции, Буало сумел придать им внутренний - смысл, громко провозгласив принцип подчинения формы содержанию. Утверждение объективного начала в искусстве, требование подражать «природе» (пусть в урезанном и упрощенном ее понимании), протест против субъективного произвола и безудержного вымысла в литературе, против поверхностного дилетантизма, идея моральной и общественной ответственности поэта перед читателем, наконец отстаивание воспитательной роли искусства - все эти положения, составляющие основу эстетической системы Буало, сохраняют свою ценность и в наши дни, являются непреходящим вкладом в сокровищницу мировой эстетической мысли.
Вступительная статья Н. А. СИГАЛ
ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Песнь первая
Есть сочинители - их много среди нас, -
Что тешатся мечтой взобраться на Парнас;
Но, знайте, лишь тому, кто призван быть поэтом,
Чей гений озарен незримым горним светом,
Покорствует Пегас и внемлет Аполлон:
Ему дано взойти на неприступный склон.
О вы, кого манит успеха путь кремнистый,
В ком честолюбие зажгло огонь нечистый,
Вы не достигнете поэзии высот:
Не станет никогда поэтом стихоплет.
Проверьте ваш талант и трезво и сурово.
Природа щедрая, заботливая мать,
Умеет каждому талант особый дать:
Тот может всех затмить в колючей эпиграмме,
А этот - описать любви взаимной пламя;
Ракан своих Филид и пастушков поет,
Но иногда поэт, к себе не слишком строгий,
Предел свой перейдя, сбивается с дороги:
Так, у Фаре есть друг, писавший до сих пор
На стенах кабачка в стихи одетый вздор;
Некстати осмелев, он петь желает ныне
Исход израильтян, их странствия в пустыне.
Ретиво гонится за Моисеем он, -
Будь то в трагедии, в эклоге иль в балладе,
Но рифма не должна со смыслом жить в разладе;
Меж ними ссоры нет и не идет борьба:
Он - властелин ее. она - его раба.
Коль вы научитесь искать ее упорно,
Охотно подчинись привычному ярму,
Неся богатство в дар владыке своему.
Но чуть ей волю дать - восстанет против долга,
И разуму ловить ее придется долго.
Так пусть же будет смысл всего дороже вам.
Пусть блеск и красоту лишь он дает стихам!
Иной строчит стихи как бы охвачен бредом:
Ему порядок чужд и здравый смысл неведом.
Чудовищной строкой он доказать спешит,
Что думать так, как все, его душе претит.
Не следуйте ему. Оставим итальянцам
Всего важнее смысл; но, чтоб к нему прийти,
Придется одолеть преграды на пути,
Намеченной тропы придерживаться строго:
Порой у разума всего одна дорога.
Нередко пишущий так в свой предмет влюблен,
Что хочет показать его со всех сторон:
Похвалит красоту дворцового фасада;
Начнет меня водить по всем аллеям сада;
Вот башенка стоит, пленяет арка взгляд;
Сверкая золотом, балкончики висят;
На потолке лепном сочтет круги, овалы:
Десятка два страниц перелистав подряд,
Остерегайтесь же пустых перечислений
Ненужных мелочей и длинных отступлений!
Излишество в стихах и плоско и смешно:
Мы им пресыщены, нас тяготит оно.
Не обуздав себя, поэт писать не может.
Спасаясь от грехов, он их порою множит.
У вас был вялый стих, теперь он режет слух;
Нет у меня прикрас, но я безмерно сух;
Один избег длиннот и ясности лишился;
Другой, чтоб не ползти, в туманных высях скрылся.
Однообразия бегите как чумы!
Тягуче гладкие, размеренные строки
На всех читателей наводят сон глубокий.
Поэт, что без конца бубнит унылый стих,
Себе поклонников не обретет меж них.
Как счастлив тот поэт, чей стих, живой и гибкий,
Умеет воплотить и слезы и улыбки.
Любовью окружен такой поэт у нас:
Бегите подлых слов и грубого уродства.
Пусть низкий слог хранит и строй и благородство
У нас в новинку был его несносный треск.
Поэтом звался тот, кто был в остротах ловок.
Заговорил Парнас на языке торговок.
Всяк рифмовал как мог, не ведая препон,
Всех заразил недуг, опасный и тлетворный,-
Болел им буржуа, болел им и придворный,
За гения сходил ничтожнейший остряк,
Потом, пресыщенный сим вздором сумасбродным,
Его отринул двор с презрением холодным;
Он шутку отличил от шутовских гримас,
И лишь в провинции «Тифон» в ходу сейчас.
И бойтесь запятнать поэзию бурлеском;
Поверьте, незачем в сраженье при Фарсале
С изящной простотой ведите свой рассказ
И научитесь быть приятным без прикрас.
Своим читателям понравиться старайтесь.
О ритме помните, с размера не сбивайтесь;
На полустишия делите так ваш стих
Чтоб смысл цезурою подчеркивался в них.
Вы приложить должны особое старанье,
Чтоб между гласными не допустить зиянья.
Созвучные слова сливайте в стройный хор:
Нам отвратителен согласных, грубый спор.
Стихи, где мысли есть. но звуки ухо ранят,
Когда во Франции из тьмы Парнас возник,
Царил там произвол, неудержим и дик.
Цезуру обойдя, стремились слов потоки…
Поэзией звались рифмованные строки!
Неловкий, грубый стих тех варварских времен
Из-под пера Маро, изяществом одеты,
Слетали весело баллады, триолеты;
И в рифмах показал поэтам новый путь.
Придумал правила, но все запутал снова.
Латынью, греческим он засорил язык
И все-таки похвал и почестей достиг.
Однако час настал - и поняли французы
Смешные стороны его ученой музы.
Свалившись с высоты, он превращен в ничто,
Но вот пришел Малерб и показал французам
Простой и стройный стих, во всеми угодный музам,
Велел гармонии к ногам рассудка пасть
И, разместив слова, удвоил тем их власть.
Очистив наш язык от грубости и скверны,
Он вкус образовал взыскательный и верный,
За легкостью стиха внимательно следил
И перенос строки сурово запретил.
Его признали все; он до сих пор вожатый;
Любите стих его, отточенный и сжатый,
И ясность чистую всегда изящных строк,
И точные слова, и образцовый слог!
Неудивительно, что нас дремота клонит,
Когда невнятен смысл, когда во тьме он тонет;
От пустословия мы быстро устаем
Иной в своих стихах так затемнит идею,
Что тусклой пеленой туман лежит над нею
И разума лучам его не разорвать, -
Обдумать надо мысль и лишь потом писать!
Пока неясно вам, что вы сказать хотите,
1. "Желанье рифмовать" не является талантом.
2. Смысл должен находиться в согласии с рифмой.
3. Главное в стихотворении - яркая острая мысль.
4. Избегайте излишнего, пустого многословия.
5. Количество не равняется качеству.
6. Низкое всегда уродливо, даже в низком стиле "должно быть благородство".
7. Изящный стиль, его строгость, чистота и ясность - образец для поэта.
8. Мысль в стихотворении должна быть четкой и ясной.
9. Поэт должен хорошо владеть языком, стилистические ошибки недопустимы.
10. Писать следует медленно и вдумчиво, а затем тщательно "шлифовать" свое
произведение.
11. Идиллия проста и наивна, она не терпит тяжеловесных выражений.
12. Элегия уныла и печальна, тон - высокий.
13. Ода бурна и "смята".
14. Сонет строг по форме (два катрена в начале, в которых восемь раз - две
рифмы, в конце - шесть строк, разделенные по смыслу на терцеты). Сонет не
терпит промахов (повторения слов, слабости стилистики).
15. Эпиграмма остра и проста по форме, хотя и шутлива. Для эпиграммы
необходим блеск мысли.
16. Баллада причудлива в рифмах.
17. Рондо имеет простой, но блестящий старинный склад.
18. Мадригал прост в рифмах, но изящен в слоге.
19. Сатира нескромна, но мила.
20. Пустые слова без чувств и мысли скучны для читателя.
21. Произведение должно иметь увлекательный, захватывающий сюжет.
22. Необходимо соблюдать единство места и времени.
23. Интрига должна нарастать постепенно и разрешаться в конце.
24. Не стоит делать из всех героев "слащавых пастушков", герой не должен
быть мелким и ничтожным, но некоторые слабости у него должны
присутствовать.
25. Для каждого героя - свои нравы и чувства.
26. Следует соблюдать точность в описаниях (мест, людей, эпох и т.п.).
27. Образ должен быть логичен.
28. Поэт в своих произведениях должен быть щедр на добрые чувства, умен,
солиден, глубок, приятен и умен. Слогу следует быть легким, сюжету -
затейливым.
29. Эпос - простор для фантазии поэта, но и фантазия должна быть заключена
в определенные границы.
30. Хороший ерой смел и доблестен, даже в слабостях выглядит владыкой.
31. Нельзя перегружать сюжет событиями. Следует также избегать лишних
32. Хороший рассказ "подвижен, ясен, сжат, а в описаниях и пышен,
33. Для комедии важны простые, но живые образы, соответствующий персонажам
язык, простой, украшенный изящными, уместными шутками стиль, правдивость
повествования.
34. Посредственность в поэзии - синоним бездарности.
35. Следует прислушиваться к советам окружающих, но при этом отличать 36.
разумную критику от пустой и глупой.
37. Сочетайте в стихах полезное с приятным, учите читателя мудрости. Стихи
должны быть пищей для ума.
38. Поэт не должен быть завистливым.
39. Деньги не должны быть всем для поэта.
40. Как много подвигов, достойных восхвалений!
41. Поэты, чтоб воспеть как подобает их,
42. С особым тщанием выковывайте стих!
3. Гете И.В. "Простое подражание природе. Манера. Стиль"
1) Гёте в статье "Простое подражание природе. Манера. Стиль" предлагает
трихотомия - троякое разделение методов искусства. "Простое подражание" -
это рабское копирование природы. "Манера" - субъективный художественный
язык, "в котором дух говорящего запечатлевает и выражает себя
непосредственно". "Стиль" же "покоится на глубочайших твердынях познания,
на самом существе вещей, поскольку нам дано его распознавать в зримых и
осязаемых образах" (наиболее высший, по мнению Гете).
2) Художественно одаренный видит гармонию многих предметов,
которые можно поместить в одной картине, лишь пожертвовав частностями, и
ему досадно рабски копировать все буквы из великого букваря при-роды; он
изобретает свой собственный лад, создает свой собственный язык. И вот возникает язык, в котором дух говорящего себя запечатлевает и выражает непосредственно. И подобно тому, как мнения о вещах нравственного порядка в душе каждого, кто мыслит самостоятельно, обрисовываются и
складываются по-своему.
3) Когда искусство благодаря подражанию природе, благодаря усилиям создать для
себя единый язык, благодаря точному и углубленному изучению самого объекта
приобретает наконец все более и более точные знания свойств вещей и того,
как они возникают, когда искусство может свободно окидывать взглядом ряды
образов, сопоставлять различные характерные формы и передавать их, тогда-то
высшей ступенью, которой оно может достигнуть, становится стиль, ступенью -
вровень с величайшими устремлениями человека.
4) Если простое подражание зиждется на спокойном утверждении сущего, на
любовном его созерцании, манера - на восприятии явлений подвижной и
одаренной душой, то стиль покоится на глубочайших твердынях познания, на
самом существе вещей, поскольку нам дано его распознавать в зримых и
осязаемых образах.
5) Чистое понятие надлежит изучать лишь на примерах самой природы и произведений искусства. Нетрудно заметить, что эти три здесь приведенные раздельно методы созидания художественных произведений находятся в близком сродстве и один почти незаметно перерастает в другой.
6) Простое подражание работает как бы в преддверии стиля. Если простое
подражание зиждется на спокойном утверждении сущего, на любовном его
созерцании, манера – на восприятии явлений подвижной и одаренной душой, то
стиль покоится на глубочайших твердынях познания, на самом существе вещей,
поскольку нам дано его распознавать в зримых и осязаемых образах»
7) Чем добросовестнее, тщательнее, чище будет подражатель подходить к делу, чем
спокойнее воспринимать то, что видит, чем сдержаннее его воспроизводить,
чем больше при этом привыкнет думать, а это значит, чем больше сравнивать
похожее и обособлять несходное, подчиняя отдельные предметы общим
понятиям, тем достойнее будет он переступать порог святая святых.
8) Манера - середина между простым подражанием и стилем. Чем ближе будет она своим облегченным
методом подходить к тщательному подражанию, и, с другой стороны, чем
ревностней схватывать характерное в предметах и стараться яснее выразить
его, чем больше она будет связывать эти свойства с чистой, живой и
деятельной индивидуальностью, тем выше, больше и значительнее она станет.
9) Мы употребляем слово «манера» в высоком и
исполненном уважения смысле, так что художнику, работы которого, по нашему
мнению, попадают в круг манеры, не следует на нас обижаться. Мы только
имелось выражение для обозначения высшей степени, которой когда-либо
достигало и когда-либо сможет достигнуть искусство. Великое счастье хотя бы
только познать ту степень совершенства, благородное наслаждение беседовать
о ней с ценителями, и это наслаждение мы хотим не раз испытать в
дальнейшем.
4. Ломоносов М.В. "Краткое руководство к красноречию"
1) Во введении Ломоносов пишет: «Красноречие есть искусство о всякой данной
материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению...
К приобретению оного требуются пять следующих средствий: первое – природные
дарования, второе – наука, третие – подражание авторов, четвертое –
упражнение в сочинении, пятое – знание других наук».
2) На страницах "Риторики" – различные риторические правила; требования,
предъявляемые к лектору; мысли о его способностях и поведении при публичных
выступлениях; многочисленные поясняющие примеры. О
сновные положения:
«Риторика есть учение о красноречии вообще... В сей науке предлагаются
правила трех родов. Первые показывают, как изобретать оное, что о
предложенной материи говорить должно; другие учат, как изобретенное
украшать; третьи наставляют, как оное располагать надлежит, и посему
разделяется Риторика на три части – на изобретение, украшение и
расположение».
3) Ломоносов говорит о том, что выступление должно быть логично построено,
грамотно написано и излагаться хорошим литературным языком. Он подчеркивает
необходимость тщательного отбора материала, правильного его расположения.
Примеры должны быть не случайными, а подтверждающими мысль выступающего. Их
надо подбирать и готовить заранее.
При публичном выступлении («распространении слова») «наблюдать надлежит: 1)
чтобы в подробном описании частей, свойств и обстоятельств употреблять
слова избранные и убегать (избегать – В.Л.) весьма подлых, ибо оне отнимают
много важности и силы и в самых лучших распространениях; 2) идеи должно
хорошие полагать напереди (ежели натуральный порядок к тому допустит),
которые получше, те в середине, а самые лучшие на конце так, чтобы сила и
важность распространения вначале была уже чувствительна, а после того
радость и страх, благодушие и гнев, справедливо полагая, что эмоциональное
воздействие часто может оказаться сильнее холодных логических построений.
«Хотя доводы и довольны бывают к удовлетворению о справедливости
предлагаемыя материи, однако сочинитель слова должен сверх того слушателей
учинить страстными к оной. Самые лучшие доказательства иногда столько силы
не имеют, чтобы упрямого преклонить на свою сторону, когда другое мнение в
уме его вкоренилось... Итак, что пособит ритору, хотя он свое мнение и
основательно докажет, ежели не употребит способов к возбуждению страстей на
свою сторону?..
А чтобы сие с добрым успехом производить в дело, то надлежит обстоятельно
знать нравы человеческие... от каких представлений и идей каждая страсть
возбуждается, и изведать чрез нравоучение всю глубину сердец
человеческих...
Страстию называется сильная чувственная охота или неохота... В возбуждении
и утолении страстей, во-первых, три вещи наблюдать должно: 1) состояние
самого ритора, 2) состояние слушателей, 3) самое к возбуждению служащее
действие и сила красноречия.
Что до состояния самого ритора надлежит, то много способствует к
возбуждению и утолению страстей: 1) когда слушатели знают, что он
добросердечный и совестный человек, а не легкомысленный ласкатель и
лукавец; 2) ежели его народ любит за его заслуги; 3) ежели он сам ту же
страсть имеет, которую в слушателях возбудить хочет, а не притворно их
страстными учинить намерен».
5) Чтобы воздействовать на аудиторию, лектор должен учитывать возраст
слушателей, их пол, воспитание, образование и множество других факторов.
«При всех сих надлежит наблюдать время, место и обстоятельства. Итак,
разумный ритор при возбуждении страстей должен поступать как искусный боец:
умечать в то место, где не прикрыто».
6) Произнося слово, надо сообразовываться с темой выступления, подчеркивает
Ломоносов. В соответствии с содержанием лекции необходимо модулировать
печальную плачевным, просительную умильным, высокую великолепным и гордым,
сердитую произносить гневным тоном... Ненадобно очень спешить или излишнюю
протяженность употреблять, для того что от первого слова бывает слушателям
невнятно, а от другого скучно».
7) Во второй части «Руководства к красноречию» Ломоносов говорит об украшении
речи, которое состоит «в чистоте штиля, в течении слова, в великолепии и
силе оного. Первое зависит от основательного знания языка, от частого
чтения хороших книг и от обхождения с людьми, которые говорят чисто».
8) Рассматривая плавность течения слова, Ломоносов обращает внимание на
продолжительность словесных периодов, чередование ударений, воздействие на
слух каждой буквы и их сочетаний. Украшению речи способствует включение в
нее аллегорий и метафор, метонимий и гипербол, пословиц и поговорок,
крылатых выражений и отрывков из известных сочинений. Причем все это надо
употреблять в меру, добавляет ученый.
9) Последняя, третья часть «Руководства» называется «О расположении» и
повествует о том, как надо размещать материал, чтобы он произвел наилучшее,
наисильнейшее впечатление на слушателей. «Что пользы есть в великом
множестве разных идей, ежели они не расположены надлежащим образом?
Храброго вождя искусство состоит не в одном выборе добрых и мужественных
воинов, но не меньше зависит и от приличного установления полков». И далее
Ломоносов на многочисленных примерах поясняет сказанное.
5. Гегель В.Ф. "Лекции по эстетике"
УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И ЗАЩИТА ЭСТЕТИКИ
1) Художественно прекрасное выше природы.
Ибо красота искусства является красотой, рожденной и возрожденной на почве духа, и насколько дух и
произведения его выше природы и ее явлений, настолько же прекрасное в
искусстве выше естественной красоты. Высказав ту общую истину, что дух и связанное с ним художественно прекрасное выше красоты в природе, мы, разумеется, еще ничего или почти
ничего не сказали, ибо «выше»- это совершенно неопределенное выражение. Оно
предполагает, что прекрасное в природе и прекрасное в искусстве находятся
как бы в одном и том же пространстве представления, так что между ними
существует лишь количественное и, следовательно, внешнее различие. Однако
высшее в смысле превосходства духа (и порожденной им красоты
художественного произведения) над природой не есть чисто относительное
понятие. Только дух представляет собой истинное как всеобъемлющее начало, и
все прекрасное лишь постольку является истинно прекрасным, поскольку оно
причастно высшему и рождено им. В этом смысле прекрасное в природе - только
рефлекс красоты, принадлежащей духу. Здесь перед нами несовершенный,
неполный тип красоты, и с точки зрения его субстанции он сам содержится в
2) Опровержение некоторых доводов, выдвинутых против эстетики
Прежде всего коснемся вопроса о том, достойно ли художественное творчество
научного анализа. Разумеется, искусством можно пользоваться и для легкой
игры, оно может служить источником забавы и развлечения, может украшать
обстановку, в которой живет человек, делать более привлекательной внешнюю
сторону жизни и выделять другие предметы, украшая их. На этом пути
искусство действительно является не самостоятельным, не свободным, а
служебным искусством. Мы же хотим говорить об искусстве свободном как с
точки зрения цели, так и с точки зрения средств для ее достижения. Не одно
лишь искусство может служить чужеродным целям в качестве побочного средства
Это свойство оно разделяет с мыслью. Но, освобождаясь от этой подчиненной
роли, мысль, свободная и самостоятельная, восходит к истине, в сфере
которой она становится независимой и наполняется только своими собственными
3) Назначение искусства
В произведения искусства народы вложили свои
служит ключом, а у некоторых народов единственным ключом для понимания их
мудрости и религии. Такое назначение искусство имеет наравне с религией и
философией, однако своеобразие его заключается в том, что даже самые
возвышенные предметы оно воплощает в чувственной форме, делая их ближе к
природе и характеру ее проявления, к ощущениям и чувствованиям.
воплощение. Задачей искусства является опосредствование этих двух сторон,
соединение их в свободное, примиренное целое. Это означает, во-первых,
требование, чтобы содержание, которое должно сделаться предметом
художественного изображения, обладало бы в самом себе способностью стать
предметом этого изображения.
2) Из этого первого требования вытекает и второе: содержание искусства не
должно быть абстрактным в самом себе, и не только в том смысле, что оно
должно быть чувственным и потому конкретным в противоположность всему
духовному и мыслимому, являющемуся будто бы внутри себя простым и
абстрактным. Ибо все истинное как в области духа, так и в области природы
конкретно внутри себя и, несмотря на свою всеобщность, обладает в себе
субъективностью и особенностью.
3) Так как искусство обращается к непосредственному созерцанию и имеет своей
задачей воплотить идею в чувственном образе, а не в форме мышления и вообще
чистой духовности и так как ценность и достоинство этого воплощения
заключаются в соответствии друг другу и единстве обеих сторон, идеи и ее
образа, то достигнутая искусством высота и степень превосходства в
достижении соразмерной его понятию реальности будут зависеть от той степени
внутреннего единства, в какой художнику удалось слить друг с другом идею и
ее образ.
4) Идея прекрасного в искусстве, или идеал
Идея как художественно прекрасное не является идеей как таковой, абсолютной
идеей, как ее должна понимать метафизическая логика, а идеей, перешедшей к
развертыванию в действительности и вступившей с ней в непосредственное
единство. Хотя идея как таковая есть сама истина в себе и для себя, однако
она есть истина лишь со стороны своей еще не объективированной всеобщности.
Идея же как художественно прекрасное есть идея с тем специфическим
свойством, что она является индивидуальной действительностью, выражаясь
иначе, она есть индивидуальное формирование действительности, обладающее
специфическим свойством являть через себя идею. Этим мы уже высказали
требование, чтобы идея и ее формообразование как конкретная
действительность были доведены до полной адекватности друг друга. Понятая
таким образом, идея как действительность, получившая соответствующую своему
понятию форму, есть идеал.
5) Существует несовершенное искусство, которое в техническом и прочем
отношении может быть вполне законченным в своей определенной сфере, но
которое при сопоставлении с понятием искусства и с идеалом представляется
неудовлетворительным. Лишь в высшем искусстве идея и воплощение подлинно
соответствуют друг другу в том смысле, что образ идеи внутри себя самого
есть истинный в себе и для себя образ, потому что само содержание идеи,
которое этот образ выражает, является истинным. Для этого нужно, как мы уже
указали выше, чтобы идея в себе и через самое себя была определена как
конкретная целостность и благодаря этому обладала бы в самой себе принципом и
мерой своих особенных форм и определенности выявления.
ИДЕАЛ КАК ТАКОВОЙ
1) Прекрасная индивидуальность
Искусство призвано постигать и изображать внешнее бытие в его явлении как
нечто истинное, то есть в его соответствии соразмерному самому себе, сущему
в себе и для себя содержанию. Истинность искусства, следовательно, не
должна быть голой правильностью, чем ограничивается так называемое
подражание природе. Внешний элемент искусства должен согласовываться с
внутренним содержанием, которое согласуется в себе с собою и именно
благодаря этому может обнаруживаться во внешнем элементе в качестве самого
2) Идеал представляет собой отобранную из массы единичностей и случайностей
действительность, поскольку внутреннее начало проявляется в этом внешнем
существовании как живая индивидуальность. Ибо индивидуальная
субъективность, носящая внутри себя субстанциальное содержание и
заставляющая его внешне проявляться в ней самой, занимает срединное
положение. Субстанциальное содержание еще не может выступить здесь
абстрактно в его всеобщности, само по себе, а остается замкнутым в
индивидуальности и представляется сплетенным с определенным существованием,
которое со своей стороны, освобожденное от конечной обусловленности,
сливается в свободной гармонии с внутренней жизнью души.
3) Пафос образует подлинное средоточие, подлинное царство искусства; его
воплощение является главным как в произведении искусства, так и в
восприятии последнего зрителем. Ибо пафос затрагивает струну, находящую
отклик в каждом человеческом сердце. Каждый знает ценное и разумное начало,
заключенное в содержании подлинного пафоса, и поэтому он признает его.
Пафос волнует, потому что в себе и для себя он является могущественной
силой человеческого существования.
4) Характер составляет подлинное средоточие идеального художественного
изображения, поскольку он соединяет в себе рассмотренные выше стороны в
качестве моментов своей целостности. Ибо идея как идеал, то есть как
воплощенная для чувственного представления и созерцания действующая и
осуществляющая себя в своей активности идея, образует в своей
определенности соотносящуюся с собой субъективную единичность. Однако
подлинно свободная единичность, как ее требует идеал, должна показать себя
не только всеобщностью, но также конкретной особенностью и единым
опосредствованием и взаимопроникновением этих сторон, которые для себя
самих существуют как единство. Это составляет целостность характера, идеал
которого состоит в богатой силе субъективности, объединяющей себя внутри
себя. В этом отношении мы должны рассмотреть характер с трех сторон:
во-первых, как целостную индивидуальность, как богатство характера внутри
во-вторых, эта целостность должна выступать как особенность, и характер
должен являться как определенный характер;
в-третьих, характер (как нечто единое в себе) смыкается с этой
определенностью как с самим собою в своем субъективном для-себя-бытии и
благодаря этому должен осуществить себя как твердый внутри себя характер.
6. Белинский В.Г. "Разделение поэзии на роды и виды"
1) Поэзия есть высший род искусства. Поэзия заключает в себе все элементы
других искусств, как бы пользуется вдруг и нераздельно всеми средствами,
которые даны порознь каждому из прочих искусств. Поэзия представляет собою
всю целость искусства, всю его организацию и” объемля собою все его
стороны, заключает в себе ясно и определенно все его различия.
I. Поэзия осуществляет смысл идеи во внешнем и организует духовный мир в
совершенно определенных, пластических образах. Это поэзия эпическая.
II. Всякому внешнему явлению предшествует побуждение, желание, намерение,
словом - мысль; всякое внешнее явление есть результат деятельности
внутренних, сокровенных сил: поэзия проникает в эту вторую, внутреннюю
сторону события, во внутренность этих сил, из которых развивается внешняя
реальность, событие и действие; здесь поэзия является в новом,
противоположном роде. Это поэзия лирическая.
III. Наконец, эти два различные рода совокупляются в неразрывное целое:
внутреннее перестает оставаться в себе и выходит вовне, обнаруживается в
действии; внутреннее, идеальное (субъективное) становится внешним, реальным
(объективным). Как и в эпической поэзии, здесь также развивается;
определенное, реальное действие, выходящее из различных субъективных и
объективных сил; но это действие не имеет уже чисто внешнего характера. Это
высший род поэзии и венец искусства - поэзия драматическая.
2) Эпическая и лирическая поэзия представляют собою две отвлеченные крайности
действительного мира, диаметрально одна другой противоположные;
драматическая поэзия представляет собою слияние (конкрецию) этих крайностей
в живое и самостоятельное третье.
А) Поэзия эпическая
Эпос, слово, сказание, передает предмет в его внешней видимости и вообще
развивает, что есть предмет и как он есть. Начало эпоса есть всякое
изречение, которое в сосредоточенной краткости схватывает в каком-либо
данном предмете всю полноту того, что есть существенного в этом предмете,
что составляет его сущность.
Эпопея нашего времени есть роман. В романе-все родовые и существенные
признаки эпоса, с тою только разницею, что в романе господствуют иные
элементы и иной колорит.
К эпической поэзии принадлежат аполог и басня, в которых опоэтизировывается
проза жизни и практическая обиходная мудрость житейская.
Б) Лирическая поэзия
Лирика дает слово и образ немым ощущениям, выводит их из душного заточения
тесной груди на свежий воздух художественной жизни, дает им особное
существование. Следовательно, содержание лирического произведения не есть
уже развитие объективного происшествия, но сам субъект и все, что проходит
через него.
Виды лирической поэзии зависят от отношений субъекта к общему содержанию,
которое он берет для своего произведения. Если субъект погружается в
элемент общего созерцания и как бы теряет в этом созерцании свою
индивидуальность, то являются: гимн, дифирамб, псальмы, пеаны.
Субъективность на этой ступени как бы не имеет еще своего собственного
мало обособления, и общее хотя и проникается вдохновенным ощущением поэта,
однако проявляется более или менее отвлеченно.
В) Драматическая поэзия
Драма представляет совершившееся событие как бы совершающимся в настоящем
времени, перед глазами читателя или зрителя. Будучи примирением эпоса с
лирою, драма не есть отдельно ни то, ни другое, но образует собою особенную
органическую целость.
Сущность трагедии, как мы уже выше говорили, заключается в коллизии, то
есть в столкновении, сшибке естественного влечения сердца с нравственным
долгом или просто с непреоборимым препятствием. С идеею трагедии
соединяется идея ужасного, мрачного события, роковой развязки.
Комедия есть последний вид драматической поэзии, диаметрально
противоположный трагедии. Содержание трагедии - мир великих нравственных
явлений, герои ее - личности, полные субстанциальных сил духовной
человеческой природы; содержание комедии - случайности, лишенные разумной
необходимости, мир призраков или кажущейся, но не существующей на самом
деле действительности; герои комедии - люди, отрешившиеся от
субстанциальных основ своей духовной натуры.
Есть еще особый вид драматической поэзии, занимающий середину между
трагедиею и комедиею: это то, что называется собственно драмою. Драма ведет
начало свое от мелодрамы, которая в прошлом веке делала оппозицию надутой и
неестественной тогдашней трагедии и в которой жизнь находила себе
единственное убежище от мертвящего псевдоклассицизма.
Вот все роды поэзии. Их только три, и больше нет и быть не может. Но в
пиитиках и литературах прошлого века существовало еще несколько родов
поэзии, между которыми особенную важность имел дидактический, или
поучительный.
Поэзия говорит не описаниями, а картинами и образами; поэзия не описывает и
не списывает предмета, а создает его.
7. Веселовский А.Н. "Историческая поэтика"
1) История литературы напоминает географическую полосу, которую международное
право освятило как res nullius <лат. - ничья вещь>, куда заходят охотиться
историк культуры и эстетик, эрудит и исследователь общественных идей.
2) Романтизм: стремление личности сбросить с себя оковы гнетущих общественных
и литературных условий и форм, порыв к другим, более свободным, и желание
обосновать их на предании.
3) На известной стадии народного развития поэтическая продукция выражается
песнями полулирического, полуповествовательного характера, либо чисто
эпическими. Условия появления больших народных эпопей: личный поэтический акт без
сознания личного творчества, поднятие народнопоэтического самосознания,
требовавшего выражения в поэзии; непрерывность предыдущего песенного
предания, с типами, способными изменяться содержательно, согласно с
требованиями общественного роста.
4) В основе этой эпопеи лежат распространенные повсюду животные сказки с
типическими лицами - зверями.
5) Литературная басня могла быть одним из первых поводов записать и народную
животную сказку.
6) Драма - внутренний конфликт личности, не только самоопределившейся, но и
разлагающей себя анализом.
7) Все мы более или менее открыты суггестивности образов и впечатлений; поэт
более чуток к их мелким оттенкам и сочетаниям, апперцепирует их полнее; так
он дополняет, раскрывает нам нас самих, обновляя старые сюжеты нашим
пониманием, обогащая новой интенсивностью знакомые слова и образы, увлекая
нас на время в такое же единение с собою, в каком жил безличный поэт
бессознательно-поэтической эпохи. Но мы слишком многое пережили врозь, наши
требования суггестивности выросли и стали личнее, разнообразнее; моменты
объединения наступают лишь с эпохами успокоенного, отложившегося в общем
сознании жизненного синтеза. Если большие поэты становятся реже, мы тем
самым ответили на один из вопросов, который ставили себе не раз: почему?
8) Поэтика сюжетов
А) Задача исторической поэтики, как она мне представляется,- определить роль и
границы предания в процессе личного творчества.
Б) Мотив - формула, отвечавшая на первых порах общественности на вопросы,
которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшая особенно яркие,
казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления действительности. Признак
мотива - его образный одночленный схематизм; таковы неразлагаемые далее
элементы низшей мифологии и сказки.
Простейший род мотива может быть выражен формулой а-\-Ь. Каждая часть
формулы способна видоизмениться, особенно подлежит приращению Ь\ задач
может быть две, три (любимое народное число) и более.
а) Мотивом - простейшая повествовательная единица, образно ответившая на
разные запросы первобытного ума или бытового наблюдения.
е) Эстетическое восприятие внутренних образов света, формы и звука -» и
игра этими образами, отвечающая особой способности нашей психики:
творчество искусства.
Ь) Сюжетом - тема, в которой снуются разные положения-мотивы.
В) Сюжеты - это сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты
человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой
действительности, С обобщением соединена уже и оценка действия,
положительная или отрицательная.
9) История поэтического стиля, отложившегося в комплексе типических
образов-символов, мотивов, оборотов, параллелей и сравнений, повторяемость
или и общность которых объясняется либо а) единством психологических
процессов, нашедших в них выражение, либо б) историческими влияниями.
8. Лихачев Д.С. "Внутренний мир художественного произведения"
1) Внутренний мир произведения словесного искусства (литературного или
фольклорного) обладает известной художественной цельностью. Отдельные
элементы отраженной действительности соединяются друг с другом в этом
внутреннем мире в некоей определенной системе, художественном единстве.
2) Ошибка литературоведов, которые отмечают различные «верности» или
«неверности» в изображении художником действительности, заключается в том,
что, дробя цельную действительность и целостный мир художественного
произведения, они делают то и другое несоизмеримым: мерят световыми годами
квартирную площадь.
3) Примерное "реальное" время событий не равно художественному времени.
4) Нравственная сторона мира художественного произведения тоже очень важна и
имеет, как и все остальное в этом мире, непосредственное «конструирующее»
значение. Нравственный мир художественных произведений все время меняется с
развитием литературы.
5) Мир художественного произведения воспроизводит действительность в некоем
«сокращенном», условном варианте.
6) Пространство сказки необычайно велико, оно безгранично, бесконечно, но
одновременно тесно связано с действием. Благодаря особенностям
художественного пространства и художественного времени в сказке
исключительно благоприятные условия - для развития действия. Действие в
сказке совершается легче, чем в каком либо ином жанре фольклора.
7) Сюжетное повествование требует чтобы мир художественного произведения был
«легким» - легким прежде всего для развития самого сюжета.
8) Изучая художественный стиль произведения, автора, направления, эпохи,
следует обращать внимание прежде всего на то, каков тот мир, в который
погружает нас произведение искусства, каково его время, пространство,
социальная и материальная среда, каковы в нем законы психологии и движения
идей, каковы те общие принципы, на основании которых все эти отдельные
элементы связываются в единое художественное целое.
9. Шкловский В. "Искусство как прием"
1) Образное мышление не есть, во всяком случае, то, что объединяет все виды
искусства, или даже только все виды словесного искусства, образы не есть
то, изменение чего составляет сущность движения поэзии.
Таким образом, вещь может быть: а) создана, как прозаическая и воспринята,
как поэтическая, б) создана, как поэтическая и воспринята, как
прозаическая.
2) Поэтический образ есть одно из средств поэтического языка. Прозаический
образ есть средство отвлечения.
3) Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как
узнавание; приемом искусства является прием „остранения“ вещей и прием
затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как
воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен;
искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не
4) Поэтическая речь - речь-построение. Проза же - речь обычная: экономичная,
легкая, правильная (dea prorsa, - богиня правильных, нетрудных родов,
„прямого“ положения ребенка).
10. Тынянов Ю. "О литературной эволюции"
1) Положение истории литературы продолжает оставаться в ряду культурных
дисциплин положением колониальной державы.
2) Связь истории литературы с живою современною литературой - связь выгодная и
нужная для науки - оказывается не всегда нужною и выгодною для
развивающейся литературы, представители которой готовы принять историю
литературы за установление тех или иных традиционных норм н законов и
«историчность» литературного явления смешивают с «историзмом» по отношению
3) Исторические исследования распадаются, по крайней мере, на два главных типа
по наблюдательному пункту: исследование генезиса литературных явлений и
исследование эволюции литературного ряда, литературной изменчивости.
4) Главным понятием литературной эволюции оказывается смена систем, а вопрос о
«традициях» переносится в другую плоскость.
5) Существование факта как литературного зависит от его дифференциального
качества (т. е. от соотнесенности либо с литературным, либо с
внелитературным рядом), другими словами - от функции его.
6) Вне соотнесенности литературных явлений не бывает их рассмотрения.
7) Функция стиха в определенной литературной системе выполнялась формальным
элементом метра. Но проза дифференцируется, эволюционирует, одновременно
эволюционирует и стих. Дифференция одного соотнесенного типа влечет за
собою или, лучше сказать, связана с дифференцией другого соотнесенного
8) Соотнесенность литературы с социальным рядом ведет их к большой стиховой
9) Система литературного ряда есть прежде всего система функций литературного
ряда, в непрерывной соотнесенности с другими рядами.
10) Быт соотнесен с литературой прежде всего своей речевой стороной. Такова же
соотнесенность литературных рядов с бытом. Эта соотнесенность литературного
ряда с бытовым совершается по речевой линии, у литературы по отношению к
быту есть речевая функция.
В целом: изучение эволюции литературы возможно только при отношении к
литературе как к ряду, системе, соотнесенной с другими рядами, системами,
ими обусловленной. Рассмотрение должно идти от конструктивной функции к
функции литературной, от литературной к речевой. Оно должно выяснить
эволюционное взаимодействие функций и форм. Эволюционное изучение должно
идти от литературного ряда к ближайшим соотнесенным рядам, а не дальнейшим,
пусть и главным. Доминирующее значение главных социальных факторов этим не
только не отвергается, но должно выясниться в полном объеме, именно в
вопросе об эволюции литературы, тогда как непосредственное установление
«влияния» главных социальных факторов подменяет изучение эволюции
литературы изучением модификации литературных произведений, их деформации.
11. Лотман Ю.М. "Семиотика культуры и понятие текста"
I. Оформление семиотики культуры - дисциплины, рассматривающей взаимодействие
разноустроенных семиотических систем, внутреннюю неравномерность
семиотического пространства, необходимость культурного и семиотического
полиглотизма, - в значительной мере сдвинуло традиционные семиотические
представления.
II. Социально-коммуникативную функцию текста можно свести к следующим
процессам.
1. Общение между адресантом и адресатом.
2. Общение между аудиторией и культурной традицией.
3. Общение читателя с самим собою.
4. Общение читателя с текстом.
5. Общение между текстом и культурным контекстом
Частным случаем будет вопрос общения текста и метатекста.
III. Текст предстает перед нами не как реализация сообщения на каком-либо одном
языке, а как сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное
трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как информационный
генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности. В связи с этим
меняется представление об отношении потребителя и текста. Вместо формулы
"потребитель дешифрует текст" возможна более точная - "потребитель общается
с текстом".
12.Бахтин М.М. "Проблема текста в лингвистике, филологии и других
гуманитарных науках"
1) Два момента, определяющие текст как высказывание: его замысел (интенция) и
осуществление этого замысла.
Проблема второго субъекта, воспроизводящего (для той или иной цели, в том
числе и исследовательской) текст (чужой) и создающего обрамляющий текст
(комментирующий, оценивающий, возражающий и т. п.).
2) С точки зрения внелингвистических целей высказывания все лингвистическое -
только средство.
3) Выразить самого себя - это значит сделать себя объектом для другого и для
себя самого («действительность сознания»). Это первая ступень объективации.
4) При нарочитой (сознательной) многостильности между стилями всегда
существуют диалогические отношения. Нельзя понимать эти взаимоотношения
чисто лингвистически (или даже механически).
5) Текст - первичная данность (реальность) и исходная точка всякой
гуманитарной дисциплины.
6) Слово (вообще всякий знак) межиндивидуально. Все сказанное, выраженное
находится вне «души» говорящего, не принадлежит только ему. Слово нельзя
отдать одному говорящему.
7) Лингвистика имеет дело с текстом, но не с произведением. То же, что она
говорит о произведении, привносится контрабандным путем и из чисто
лингвистического анализа не вытекает.
8) Каждое большое и творческое словесное целое есть очень сложная и
многопланная система отношений.
полную и окончательную волю наличным или близким адресатам (ведь и
ближайшие потомки могут ошибаться) и всегда предполагает (с большей или
меньшей осознанностью) какую-то высшую инстанцию ответного понимания,
которая может отодвигаться в разных направлениях.
10) Единицы речевого общения - целые высказывания - невоспроизводимы (хотя их и
можно цитировать) и связаны друг с другом диалогическими отношениями.
15. Лотман Ю.М. "Массовая литература как историко-культурная проблема"
Понятие «массовой литературы» - понятие социологическое. Оно касается не
столько структуры того или иного текста, сколько его социального
функционирования в общей системе текстов, составляющих данную культуру.
Понятие «массовой литературы» подразумевает в качестве обязательной
антитезы некоторую вершинную культуру.
Один и тот же текст должен восприниматься читателем в двойном свете. Он
должен иметь признаки принадлежности к высокой культуре эпохи и в
определенных читательских кругах ей приравниваться:
Прежде всего, в массовую литературу войдут произведения писателей-самоучек,
дилетантов, порой принадлежащих к низшим социальным слоям (произведение,
созданные на основе высокой литературы, но не соответствующие ей по
Однако в массовую литературу попадают и тексты другого типа. Высокая
литература отвергает не только то, что слишком полно, слишком
последовательно реализует ее собственные нормы и, следовательно,
представляется тривиальным и ученическим, но и то, что эти нормы вообще
игнорирует. Такие произведения кажутся «непонятными», «дикими».
Говоря о тех произведениях, принадлежность которых к массовой литературе
условна и характеризуется скорее негативными, чем позитивными признаками,
необходимо различать два случая. О первом мы уже говорили - это
произведения, настолько чуждые господствующей литературной теории эпохи,
что, с ее точки зрения, оказываются непонятными. Современная критика
оценивает их как «плохие», «бездарные». Однако возможен и другой тип
отверженности - тот, который соединяется с высокой оценкой и даже иногда ее
подразумевает.
Массовая литература устойчивее сохраняет формы прошлого и почти всегда
представляет собой многослойную структуру.
Господствующая литературная теория всегда представляет собой жесткую
систему. Поэтому с переходом литературы на новый этап она отбрасывается, и
новая теоретическая система не создается в порядке эволюционного развития
из старой, а строится заново и на новых основаниях.
Теоретическая самооценка литературы выполняет двойную роль: на первом этапе
данной культурной эпохи она организует, строит, создает новую систему
художественного общения. На втором - тормозит, сковывает развитие. Именно в
эту эпоху активизируется роль массовой литературы - имитатора и критика
литературных догматов и теорий.
Выступая в определенном отношении как средство разрушения культуры,
массовая литература одновременно может втягиваться в ее систему, участвуя в
строительстве новых структурных форм.
16. Лотман Ю.М. "Структура художественного текста"
1. Искусство - одно из средств коммуникации.
Поэтическая речь представляет собой структуру большой сложности. Она значительно усложнена по отношению к естественному языку. И если бы объем информации, содержащейся в поэтической (стихотворной или прозаической - в данном случае не имеет значения) и обычной речи был одинаковым6, художественная речь потеряла бы право на существование и, бесспорно, отмерла бы.
Обладая способностью концентрировать огромную информацию на «площади» очень небольшого текста (ср. объем повести Чехова и учебника психологии), художественный текст имеет еще одну особенность: он выдает разным читателям различную информацию - каждому в меру его понимания, он же дает читателю язык, на котором можно усвоить следующую порцию сведений при повторном чтении.
2. Проблема значений - одна из основных для всех наук семиотического цикла. В конечном итоге, целью изучения любой знаковой системы является определение ее содержания.
Эквивалентность семантических единиц художественного текста реализуется иным путем: в основу кладется сопоставление лексических (и иных семантических) единиц, которые на уровне первичной (лингвистической) структуры могут заведомо не являться эквивалентными.
Если взять такой текст, как лирическое стихотворение, и рассматривать его в качестве одного структурного сегмента (при условии, что стихотворение не входит в цикл), то синтагматические значения - например, отнесение текста к другим произведениям того же автора или его биографии - приобретут такой же характер структурного резерва, какой в музыке имела семантика.
3. В основу понятия текста, видимо, удобно будет положить следующие определения: выраженность, отграниченность, структурность.
4. И в читательском, и в исследовательском подходе к художественному произведению издавна соревнуются две точки зрения: одни читатели считают, что главное - это понять произведение, другие - испытать эстетическое наслаждение; одни исследователи считают целью своей работы построение концепции (чем более всеобщей, то есть абстрактной, - тем более ценной), а другие подчеркивают, что любая концепция убивает самую сущность художественного произведения и, логизируя, обедняет и искажает его.
Каждая деталь и весь текст в целом включены в разные системы отношений, получая в результате одновременно более чем одно значение. Будучи обнажено в метафоре, это свойство имеет более общий характер.
Путь к познанию - всегда приближенному - многообразия художественного текста идет не через лирические разговоры о неповторимости, а через изучение неповторимости как функции определенных повторяемостей, индивидуального как функции закономерного.
5. При порождении правильной фразы на каком-либо естественном языке говорящий производит два различных действия:
а) соединяет слова так, чтобы они образовали правильные (отмеченные) в семантическом и грамматическом отношении цепочки;
б) выбирает из некоторого множества элементов один, употребляемый в данном предложении.
Соединение одинаковых элементов в цепочки производится по иным законам, чем соединение разнородных, - оно строится как присоединение и в этом смысле воспроизводит основную черту надфразового построения речевого текста. При этом существенно следующее: повторение одного и того же элемента приглушает его семантическую значимость (ср. психологический эффект многократного повторения одного и того же слова, превращающегося в бессмыслицу). Зато вперед выдвигается способ соединения этих утративших значение элементов.
Для внутритекстового (то есть при отвлечении от всех внетекстовых связей) семантического анализа необходимы следующие операции:
1) Разбиение текста на уровни и группы по уровням синтагматических сегментов (фонема, морфема, слово, стих, строфа, глава - для стихового текста; слово, предложение, абзац, глава - для прозаического текста).
2) Разбиение текста на уровни и группы по уровням семантических сегментов (типа «образы героев»). Эта операция особенно важна при анализе прозы.
3) Выделение всех пар повторов (эквивалентностей).
4) Выделение всех пар смежностей.
5) Выделение повторов с наибольшей мощностью эквивалентности.
6) Взаимное наложение эквивалентных семантических пар с тем, чтобы выделить работающие в данном тексте дифференциальные семантические признаки и основные семантические оппозиции по всем основным уровням. Рассмотрение семантизации грамматических конструкций.
7) Оценка заданной структуры синтагматического построения и значимых от него отклонений в парах по смежности. Рассмотрение семантизации синтаксических конструкций.
6. В иерархии движения от простоты к сложности расположение жанров другое: разговорная речь - песня (текст + мотив) - «классическая поэзия» - художественная проза.
Механизм воздействия рифмы можно разложить на следующие процессы. Во-первых, рифма - повтор. Второй элемент семантического восприятия рифмы - сопоставление слова и рифмующегося с ним, возникновение коррелирующей пары.
Текстуальное совпадение обнажает позиционное различие. Различное положение текстуально одинаковых элементов в структуре ведет к различным формам соотнесенности их с целым. А это определяет неизбежное различие трактовки. И именно совпадение всего, кроме структурной позиции, активизирует позиционность как структурный, смыслоразличающий признак. Таким образом, «полный» повтор оказывается неполным и в плане выражения (различие позиции), и, следовательно, в плане содержания (ср. сказанное выше о припеве).
7. Повторы разных уровней играют выдающуюся роль в организации текста и издавна привлекают внимание исследователей. Однако сведение всей художественной конструкции к повторениям представляется ошибочным. И дело здесь не только в том, что повторы часто, особенно в прозе, охватывают собой незначительную часть текста, а вся остальная остается вне поля зрения исследователя как якобы эстетически не организованная и, следовательно, художественно пассивная. Сущность вопроса состоит в том, что сами повторы художественно активны именно в связи с определенными нарушениями повторения (и обратно). Только учет обеих этих противонаправленных тенденций позволяет раскрыть сущность их эстетического функционирования.
8. Одни и те же слова и предложения, составляющие текст произведения, станут по-разному члениться на сюжетные элементы в зависимости от того, где будет проведена черта, отграничивающая текст от нетекста.
Рамка литературного произведения состоит из двух элементов: начала и конца. Особая моделирующая роль категорий начала и конца текста непосредственно связана с наиболее общими культурными моделями. Так, например, для очень широкого круга текстов наиболее общие культурные модели будут давать резкую отмеченность этих категорий.
Кодирующая функция в современном повествовательном тексте отнесена к началу, а сюжетно-«мифологизирующая» - к концу. Разумеется, поскольку в искусстве правила существуют в значительной мере затем, чтобы создавать возможность художественно значимого их нарушения, то и в данном случае это типовое распределение функций создает возможности многочисленных вариантных уклонений.
9. Всякий художественный текст может выполнить свою социальную функцию лишь при наличии эстетической коммуникации в современном ему коллективе.
Вводя точные критерии и научившись моделировать антихудожественные явления, исследователь и критик получают инструмент для определения подлинной художественности. Для известного этапа науки критерий художественности современного искусства, возможно, придется сформулировать так: система, не поддающаяся механическому моделированию. Ясно, что для многих реально существующих и даже пользующихся успехом текстов он в ближайшее время окажется роковым.
Давно уже было пущено в ход сравнение искусства с жизнью. Но только теперь становится явным, как много в этом когда-то звучавшем метафорой сопоставлении точной истины. Можно с уверенностью сказать, что из всего созданного руками человека художественный текст в наибольшей мере обнаруживает те свойства, которые привлекают кибернетика к структуре живой ткани.
1) Очевидно, так было всегда: если о чем-либо рассказывается ради самого рассказа, а не ради прямого воздействия на действительность, то есть, в конечном счете, вне какой-либо функции, кроме символической деятельности как таковой, - то голос отрывается от своего источника, для автора наступает смерть, и здесь-то начинается письмо.
2) В средостении того образа литературы, что бытует в нашей культуре, безраздельно царит автор, его личность, история его жизни, его вкусы и страсти...
3) С точки зрения лингвистики, автор есть всего лишь тот, кто пишет, так же как «я» всего лишь тот, кто говорит «я»; язык знает «субъекта», но не «личность», и этого субъекта, определяемого внутри речевого акта и ничего не содержащего вне его, хватает, чтобы «вместить» в себя весь язык, чтобы исчерпать все его возможности.
4) Удаление Автора - это не просто исторический факт или эффект письма: им до основания преображается весь современный текст, или, что то же самое, ныне текст создается и читается таким образом, что автор на всех его уровнях устраняется.
5) Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников.
6) Когда Автор устранен, совершенно напрасным становятся и всякие притязания на «расшифровку» текста. Присвоить тексту Автора - это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо.
7) Читатель - это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель - это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст.
8) Чтобы обеспечить письму будущность, нужно опрокинуть миф о нем - рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора.
19. Гадамер Х.Г. "Истина и метод. Основы философской герменевтики"
1) Философская герменевтика включает философское движение нашего столетия, преодолевшее одностороннюю ориентировку на факт науки, которая была само собой разумеющейся как для неокантианства, так и для позитивизма того времени.
2) Фактически абсолютизирование идеала "науки" - это большое ослепление, которое каждый раз снова ведет к тому, чтобы герменевтическую рефлексию вообще считать беспредметной. Сужение перспективы, которое следует за мыслью о методе, кажется исследователю трудно понимаемым. Он всегда уже ориентирован на оправдание метода своего опыта, то есть отворачивается от противоположного направления рефлексии.
3) Герменевтика играет не только ту роль в науке, которая обсуждается, но выступает и как самосознание человека в современную эпоху науки.
4) Как "онтологизирование" язык может появляться при нашей постановке вопроса, однако, лишь тогда, когда вопрос о предпосылках инструментализации языка вообще остается без внимания. Это действительно проблема философии, которую выдвигает герменевтическая практика вскрыть те онтологические импликации, которые лежат в "техническом" понятии науки, и достигнуть теоретического признания герменевтического опыта.
5) Современном словоупотреблении теоретическое оказывается почти привативным понятием. Нечто является лишь теоретическим, если она не обладает обязательностью цели, определяющей наши действия. И наоборот, cами разрабатываемые здесь теории определяются конструктивной идеей, то есть само теоретическое познание рассматривается с точки зрения сознательного овладения сущим: не как цель, но как средство. Теория в античном смысле есть нечто совершенно иное. Здесь не просто созерцается существующий порядок как таковой, но теория означает, cверх того, участие созерцателя в самом целостном порядке бытия.
6) Языковой характер имеет человеческий опыт мира вообще. Cколь мало (мир) опредмечивается в этом опыте, cтоль же мало история воздействий является предметом герменевтического сознания.
20. "Литературные манифесты от символизма до наших дней"
I. "Митьки"
Ленинградская группа художников и писателей «Митьки» сложилась в начале 80-х годов. В 1985 году была написана и нарисована программная книга «Митьки», которую можно рассматривать как расширенный манифест движения (издана только в 1990 г.). В состав группы входили Дмитрий Шагин (р. 1957), Владимир Шинкарев (р. 1954), Александр Флоренский (р. 1960), Ольга Флоренская (р. 1960), Виктор Тихомиров (р. 1951). Позже группа значительно расширилась.
«Митьки» - долгожданное явление чисто народной русской городской смеховой культуры. Бесчисленные ссылки на повальный алкоголизм митьков следует рассматривать как художественный прием, а не как суровые будни движения.
"Орден куртуазных маньеристов"
По словам основателя ордена поэта В. Степанцова, «Орден куртуазных маньеристов» был создан в Москве 22 декабря 1988 года в ресторане Всероссийского театрального общества (ВТО). В состав объединения первоначально входили Вадим Степанцов (р. 1960), Виктор Пеленягрэ (р. 1959), Андрей Добрынин (р. 1957) и Константин Григорьев (р. 1968). Из них трое - В. Степанцов, В. Пеленягрэ и К. Григорьев - выпускники Литературного института им. Горького. Главный манифест куртуазных маньеристов помещен в конце их совместного сборника с характерным названием «Красная книга маркизы» (М., 1995) - намек на известную предреволюционную эротическую «Книгу маркизы» Константина Сомова. Но еще ранее, в 1992 году, в коллективном сборнике «Любимый шут принцессы Грёзы» был напечатан первый по времени манифест «Российская Эрата и куртуазный маньеризм».
II. "ДООС"
1984 году из московской группы поэтов-метаметафористов выделились три поэта, создавшие новую группу под названием «Добровольное общество охраны стрекоз». Смысл названия был нарочито лукавым - реабилитировать и защитить крыловскую попрыгунью-стрекозу, которая «все пела», и доказать, что пение - такое же дело, как и труд муравья. Чисто фонетически ДООС напоминает даосов, китайскую философскую школу (IV-III вв. до н.э.), восходящую к учению Лао-цзы. Этот смысл также изначально присутствовал в названии группы.
В ее состав вошли Константин Кедров, Елена Кацюба и Людмила Ходьшская. О своей близости к ДООС заявляли Алексей Хвостенко и маститый Андрей Вознесенский.
Для участников ДООС очень важна анаграмма, то есть перестановка букв в слове с целью получения нового слова, например, «Схема смеха». Елена Кацюба составила изданный отдельной книгой «Первьй палиндромический словарь современного русского языка» (М., 1999), то есть собрание слов, одинаково читающихся слева направо и справа налево. Кому-то это может показаться детской забавой, но смысл, как и Дух, веет, где хочет.
21. Выготский Л.С. "Психология искусства"
Басня всецело принадлежит к поэзии. На нее распространяются все те законы психологии искусства, которые в более сложном виде мы можем обнаружить в высших формах искусства.
Тенденция поэта как раз обратна тенденции прозаика. Поэт заинтересован в том именно, чтобы привлечь наше внимание к герою, возбудив наше сочувствие или неудовольствие, конечно, не в той степени, как это имеет место в романе или в поэме, но в зачаточном виде именно те самые чувства, которые возбуждает роман, поэма и драма.
Очень легко показать, что почти с самого начала басня поэтическая и прозаическая, из которых каждая шла своим путем и подчинялась своим особым законам развития, требовала каждая различных психологических приемов для своей обработки.
Мы везде при рассмотрении каждого из элементов построения басни в отдельности вынуждены были вступить в противоречие с тем объяснением, которое давалось этим элементам в прежних теориях. Мы старались показать, что басня по историческому своему развитию и по психологической своей сущности разбилась на два совершенно различных жанра и что все рассуждения Лессинга всецело относятся к басне прозаической и потому его нападки на поэтическую басню как нельзя лучше указывают на те элементарные свойства поэзии, которые стала присваивать себе басня, как только она превратилась в поэтический жанр. Однако все это только разрозненные элементы, смысл и значение которых мы старались показать каждого порознь, но смысл которых в целом нам еще непонятен, как непонятно самое существо поэтической басни. Ее, конечно, нельзя вывести из ее элементов, поэтому нам необходимо от анализа обратиться к синтезу, исследовать несколько типических басен и уже из целого уяснить себе смысл отдельных частей. Мы опять встретимся все с теми же элементами, с которыми имели дело и прежде, но смысл и значение каждого из них уже будет определяться строем всей басни.
Н. А. СИГАЛ.
«ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» БУАЛО
Творчество Буало - крупнейшего теоретика французского классицизма, обобщившего в своей поэтике ведущие тенденции национальной литературы своего времени, - падает на вторую половину XVII века. В этот период во Франции завершается процесс становления и укрепления централизованной государственной власти, абсолютная монархия достигает апогея своего могущества.
Это укрепление централизованной власти, совершавшееся ценой жестоких репрессий, сыграло тем не менее прогрессивную роль в становлении единого национального государства и - косвенным образом - в становлении общенациональной французской культуры и литературы. По выражению Маркса, во Франции абсолютная монархия выступает «в качестве цивилизующего центра, в качестве основоположника национального единства».
Будучи по природе своей дворянской властью, французский абсолютизм вместе с тем пытался найти опору в высших слоях буржуазии: на протяжении всего XVII века королевская власть последовательно проводит политику укрепления и расширения привилегированной, чиновничьей прослойки буржуазии - так называемого «дворянства мантии». Этот бюрократический характер французской буржуазии отмечает Маркс в письме к Энгельсу от 27 июля 1854 года: «...сразу же, по крайней мере с момента возникновения городов, французская буржуазия становится особенно влиятельной благодаря тому, что организуется в виде парламентов, бюрократии и т. д., а не так, как в Англии, благодаря одной торговле и промышленности». Вместе с тем французская буржуазия в XVII веке, в отличие от английской, совершавшей в это время свою первую революцию, была еще незрелым, несамостоятельным классом, неспособным революционным путем отстоять свои права.
Склонность буржуазии к компромиссу, ее покорность мощи и авторитету абсолютной монархии особенно ясно обнаружились в конце 40-х - начале 50-х годов XVII века, в период Фронды. В этом сложном по своему составу антиабсолютистском движении, возникшем сначала в среде оппозиционной феодальной знати, но получившем широкий отклик среди крестьянских масс, верхушка городской буржуазии, составлявшая парижский парламент, изменила интересам народа, сложила оружие и покорилась королевской власти. В свою очередь и сама абсолютная монархия, в лице Людовика XIV (годы правления 1643-1715), намеренно стремилась вовлечь в орбиту придворного влияния верхушку чиновничьей буржуазии и буржуазной интеллигенции, противопоставив ее, с одной стороны, остаткам оппозиционной феодальной знати, с другой - широким народным массам.
Эта буржуазная прослойка при дворе должна была явиться рассадником и проводником придворной идеология, культуры, эстетических вкусов среди более широких кругов городской буржуазии (подобно тому как в области экономической жизни аналогичную функцию выполнял министр Людовика XIV Кольбер, первый в истории Франции буржуа на посту министра).
Эта сознательно проводимая Людовиком XIV линия являлась как бы продолжением той «культурной политики», которую начал его политический предшественник кардинал Ришелье (годы правления 1624-1642), впервые поставивший литературу и искусство под непосредственный контроль государственной власти. Наряду с учрежденной Ришелье Французской Академией - официальной законодательницей литературы и языка - в 1660-е годы основываются Академия изящных искусств, Академия надписей, позднее Академия музыки и т. п.
Но если в начале своего правления, в 1660-1670-е годы, Людовик XIV разыгрывал по преимуществу роль щедрого мецената, стремящегося окружить свой двор выдающимися писателями и художниками, то в 1680-е годы его вмешательство в идеологическую жизнь принимает сугубо деспотический и реакционный характер, отражающий общий поворот французского абсолютизма в сторону реакции. Начинаются религиозные преследования кальвинистов и близкой к ним католической секты янсенистов. В 1685 году отменяется Нантский эдикт, обеспечивавший равноправие протестантов с католиками, начинается насильственное обращение их в католицизм, конфискация имущества непокорных, преследование малейших проблесков оппозиционной мысли. Возрастает влияние иезуитов, реакционных церковников.
Литературная жизнь Франции также вступает в полосу кризиса и затишья; последним значительным произведением блестящей классической литературы являются «Характеры и нравы нашего века» Лабрюйера;(1688) - публицистическая книга, запечатлевшая картину морального упадка и деградации французского высшего общества.
Поворот в сторону реакции наблюдается и в области философии. Если ведущее философское направление середины века - учение Декарта - заключало в себе наряду с идеалистическими элементами материалистические, то в конце века последователи и ученики Декарта развивают именно идеалистическую и метафизическую сторону его учения. «Все богатство метафизики ограничивалось теперь только мысленными сущностями и божественными предметами, и это как раз в такое время, когда реальные сущности и земные вещи начали сосредоточивать на себе весь интерес. Метафизика стала плоской». В свою очередь и традиция материалистической философской мысли, представленная в середине века Гассенди и его учениками, переживает кризис, разменивается на мелкую монету в аристократических вольнодумных кружках опальных вельмож; и только одна крупная фигура воплощает наследие французского материализма и атеизма - это эмигрант Пьер Бейль, которого по справедливости считают духовным отцом французского Просвещения.
Творчество Буало в своей последовательной эволюции отразило эти сложные процессы, совершавшиеся в общественной и идеологической жизни его времени.
Николa Буало-Депрео родился 1 ноября 1636 года в Париже, в семье зажиточного буржуа, адвоката, чиновника парижского парламента. Получив обычное для того времени классическое образование в иезуитской коллегии, Буало поступил сначала на богословский, а затем на юридический факультет Сорбонны (Парижского университета), однако, не испытывая никакого влечения к этой профессии, отказался от первого же порученного ему судебного дела. Оказавшись в 1657 году; после смерти отца, материально независимым (отцовское наследство обеспечивало ему пожизненную ренту приличного размера), Буало целиком посвятил себя литературе. С 1663 года начинают печататься его мелкие стихотворения, а затем сатиры (первая из них написана еще в 1657 году). До конца 1660-х годов Буало выпускает девять сатир, снабженных, в качестве предисловия к девятой, теоретическим «Рассуждением о сатире». В этот же период Буало сближается с Мольером, Лафонтеном и Расином. В 1670-е годы он пишет девять Посланий, «Трактат о прекрасном», ирои-комическую поэму «Налой». В 1674 году заканчивает стихотворный трактат «Поэтическое искусство», задуманный по образцу «Науки поэзии» Горация. В этот период авторитет Буало в области литературной теории и критики является уже общепризнанным.
Вместе с тем непримиримая позиция Буало в борьбе за прогрессивную национальную литературу против реакционных сил общества, в частности поддержка, оказанная им в свое время Мольеру и позднее - Расину, решительный отпор третьестепенным писателям, за спиной которых скрывались порой весьма влиятельные лица, - создали критику множество опасных врагов как среди литературной клики, так и в аристократических салонах. Немалую роль сыграли и смелые, «вольнодумные» выпады в его сатирах, направленные непосредственно против высшей знати, иезуитов, великосветских ханжей. Так, в V сатире Буало клеймит «пустую, тщеславную, праздную знать, кичащуюся заслугами предков и чужими доблестями», и противопоставляет наследственным дворянским привилегиям третьесословную идею «личного благородства».
Враги Буало не останавливались в своей борьбе против него ни перед чем - разъяренные аристократы грозились наказать дерзкого буржуа палочными ударами, церковные мракобесы требовали его сожжения на костре, ничтожные литераторы изощрялись в оскорбительных пасквилях.
В этих условиях единственную гарантию и защиту от преследований могло дать поэту только покровительство самого короля, - и Буало счел благоразумным воспользоваться им, тем более что его боевой сатирический пафос и критика никогда не имели специально политической направленности. По своим политическим взглядам Буало, как и подавляющее большинство его современников, был сторонником абсолютной монархии, в отношении которой он долгое время питал оптимистические иллюзии.
С начала 1670-х годов Буало становится человеком, близким ко двору, а в 1677 году король назначает его, вместе с Расином, своим официальным историографом - своего рода демонстративный жест высочайшего благоволения к двум буржуа, в значительной мере обращенный к старой, все еще оппозиционно настроенной знати.
К чести обоих поэтов нужно сказать, что их миссия как историков царствования «короля-солнца» так и осталась невыполненной. Многочисленные военные кампании Людовика XIV, агрессивные, разорительные для Франции, а с 1680-х годов к тому же и неудачные, не могли вдохновить Буало, этого поборника здравого смысла, ненавидевшего войну, как величайшую нелепость и бессмысленную жестокость, и заклеймившего в VIII сатире гневными словами завоевательные мании монархов.
С 1677 по 1692 год Буало не создает ничего нового. Его творчество, развивавшееся до сих пор в двух направлениях - сатирическом и литературно-критическом - утрачивает свою почву: современная литература, служившая источником и материалом его критики и эстетической теории, переживает глубокий кризис. После смерти Мольера (1673) и ухода из театра Расина (в связи с провалом «Федры» в 1677 году) основной жанр французской литературы - драматургия - оказался обезглавленным. На первый план выступают третьестепенные фигуры, в свое время интересовавшие Буало только как объекты сатирических выпадов и борьбы, когда нужно было расчищать путь подлинно крупным и значительным писателям.
С другой стороны, постановка более широких морально-общественных проблем становилась невозможной в условиях гнетущего деспотизма и реакции 1680-х годов. Наконец, известную роль в этот период религиозных гонений должны были сыграть и давние дружеские связи Буало с идейными вождями янсенизма, с которыми, в отличие от Расина, Буало никогда не порывал. Далекий по своему складу мыслей от всякого религиозного сектантства и ханжества, Буало относился с бесспорным сочувствием к некоторым моральным идеям янсенистов, ценил в их учении высокую этическую принципиальность, особенно выделявшуюся на фоне развращенных нравов двора и лицемерной беспринципности иезуитов. Между тем всякое открытое выступление в защиту янсенистов, хотя бы по моральным вопросам, было невозможно. Писать же в духе официального направления Буало не хотел.
Тем не менее в начале 1690-х годов он прерывает свое пятнадцатилетнее молчание и пишет еще три послания и три сатиры (последняя из которых, XII, направленная непосредственно против иезуитов, была впервые напечатана лишь через шестнадцать лет, уже после смерти автора). Написанный в эти же годы теоретический трактат «Размышления о Лонгине» является плодом долгой и острой полемики, которая была начата в 1687 году во Французской Академии Шарлем Перро в защиту новой литературы и получила название «Спор древних и новых». Здесь Буало выступает решительным сторонником античной литературы и пункт за пунктом опровергает нигилистическую критику Гомера в работах Перро и его приверженцев.
Последние годы Буало были омрачены тяжкими недугами. После смерти Расина (1699), с которым его связывали многолетняя личная и творческая близость, Буало остался в полном одиночестве. Литература, в создании которой он принимал деятельное участие, стала классикой, его собственная поэтическая теория, рождавшаяся в активной, напряженной борьбе, стала застывшей догмой в руках педантов и эпигонов.
Новые пути и судьбы родной литературы еще только смутно и подспудно намечались в эти первые годы нового столетия, а то, что лежало на поверхности, было удручающе пустым, безыдейным и бездарным. Буало умер в 1711 году, накануне выступления первых просветителей, но он целиком принадлежит великой классической литературе XVII века, которую он первый сумел оценить по заслугам, поднять на щит и теоретически осмыслить в своем «Поэтическом искусстве».